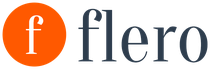Заходи и присаживайся, любезный читатель, стол уже накрыт. В нашем сегодняшнем меню – пирожки и соленые огурчики, устрицы и ростбиф, вареники, блины и другие блюда, которые появлялись на страницах русской классической литературы XIX. Перефразируя известное изречение Евгения Евтушенко, еду в русской классике можно смело назвать «больше, чем едой». И дело не только в аппетитных описаниях: нередко именно посредством «пищевых» образов и лексики писателям удавалось передать тончайшие нюансы смысла.
Щи против устриц: дуэль жизненных философий
Первыми по-настоящему возбуждающими аппетит строками русская литература обязана Г.Р. Державину. Уже в своей оде «Фелица» он воспевает «славный окорок вестфальской» и не без сладострастия признается устами лирического героя: «шампанским вафли запиваю, и все на свете забываю ». В «Похвале сельской жизни» поэт идет еще дальше и задает узловую гастрономическую дихотомию русской литературы: заморская утонченная пища против традиционной домашней. Он рисует уютную картину домашнего помещичьего обеда в кругу семьи с горшком «горячих, добрых щей», после которого устрицы и все прочее, «чем окормляют нас французы » кажется невкусным.
В дальнейшем это противопоставление появилось на страницах многих русских классиков, развиваясь и углубляясь, но суть оставалась той же: французская кухня несла в себе символику светского блеска, оторванности от дома и желания «красивой жизни», а традиционная русская пища олицетворяла семейственность, простоту нравов и приверженность «привычкам милой старины».
Ярко это столкновение двух миров проявляется в «Евгении Онегине» А.С. Пушкина: сложно найти две менее схожие трапезы, чем изысканный пир Евгения в петербургском ресторане и именины Татьяны в доме Лариных. На одном полюсе «roast-beef окровавленный », трюфели, ананас и дорогие французские вина, на другом - жирный пирог, жаркое, отечественное Цимлянское шампанское и чай с ромом. Могут ли герои со столь разными привычками понять друг друга? Вряд ли. Несхожесть кулинарных традиций и отношения к быту подчеркивает несовместимость и взаимное непонимание наших героев еще до того, как звучит финальное «нет» Татьяны.
Несхожесть кулинарных традиций и отношения к быту подчеркивает несовместимость и взаимное непонимание наших героев еще до того, как звучит финальное «нет» Татьяны.
Впрочем, Пушкин не морализатор и не осуждает «все французское», отдавая должное каждому из двух миров и описывая их с одинаковой наблюдательностью и теплотой.
Не менее выразительна коллизия «простой» и «светской» еды в «Анне Карениной» Льва Толстого. Шикарные обеды Стивы Облонского с устрицами и пармезаном противопоставлены простым трапезам Левина, любящего щи и кашу и порой делящего тюрю с крестьянами. Несмотря на то, что симпатии автора, безусловно, на стороне народной кухни, пиры Стивы он живописует со знанием дела. Однако двойственность гастрономических вселенных в «Анне Карениной» служит не только для раскрытия характеров персонажей, она заключает в себе гораздо более глубокую символику. Отношение к еде становится отражением отношения к жизни и моральному выбору.
Один из сквозных образов романа - калач, имеющий метафорическое значение соблазна. В диалоге с Облонским этот образ облекается в слова: Левин сравнивает измену любимой жене с тем, как сытый человек крадет калач, а Облонский возражает «калач иногда пахнет так, что не удержишься».
После прочтения этого эпизода становится понятно символическое значение сцены из начала романа, где Стива Облонский, недавно изменивший жене, с удовольствием ест калач с маслом и стряхивает с груди его крошки (налицо параллель с откушенным запретным плодом). Левин же, сторонник позиции «не красть калачей», взаимодействует со злополучным пекарским изделием иначе: перед тем, как просить руки Кити, он заказывает калач в трактире, но не чувствует желания его съесть и в итоге… выплевывает.

Безусловно, эта деталь может говорить о том, что в волнении герой потерял всяческий аппетит, но нельзя спускать со счетов и метафорическую трактовку.
На этом «пищевые» сравнения в романе не заканчиваются. Образ калача - лишь одно из звеньев нерушимой цепи, которыми связаны в «Анне Карениной» понятия любви и страсти, голода и гурманства. «Я - как голодный человек, которому дали есть», - говорит о своей любви к Вронскому Анна. Переживая охлаждение Вронского, она замечает: «Да, того вкуса уж нет для него во мне». Здесь также заметна разница восприятий: для нее любовь - утоление душевного голода, жизненная необходимость, а для него - всего лишь вкус, который способен померкнуть. В этом отношении Анна оказывается ближе к Левину, который ест для того, чтобы «поскорее наесться», а не подольше лакомиться. В конце романа вкус к еде (и жизни) теряет и Анна - не притрагивается к хлебу и сыру, а на вокзале ее внимание привлекает грязное мороженое в кадке мороженщика и жадные взгляды мальчишек на него. «Всем нам хочется сладкого, вкусного», - с отвращением думает она, и, конечно же, смысл этого предложения - не только в констатации общечеловеческой любви к сладостям.
Пирожки с любовью по-гоголевски
Тема еды и ее соотнесение с любовью и страстью встречается во множестве произведений русской классической литературы XIX века. Целомудренная в изображении плотских страстей, в отношении пищевых удовольствий она не была столь же аскетичной. Все богатство вкусов, красок, весь спектр удовольствий, связанных с едой, отображены в ней, подчас со сладострастной чувственностью. Особенно выразительно эта взаимосвязь проявляется в произведениях Н.В. Гоголя.
Исследователи много писали о значении образов пищи в творчестве Гоголя, прежде всего для раскрытия характеров персонажей, но мы хотим сосредоточить наше внимание именно на взаимосвязи страсти и чревоугодия. Они столь часто идут в его книгах бок о бок, что можно вывести формулу «любовь = еда», и наоборот.
В ходе дальнейшего развития событий равенство любви и еды превращается в сумму: герой совмещает оба удовольствия, в одной руке держа вареник, а другой обнимая «дородный стан» хозяйки.
Яркое воплощение этой гоголевской аксиомы - пародийная сценка из «Сорочинской ярмарки», где герои флиртуют между собой с помощью гастрономической лексики на фоне аппетитно накрытого стола. В ходе дальнейшего развития событий равенство любви и еды превращается в сумму: герой совмещает оба удовольствия, в одной руке держа вареник, а другой обнимая «дородный стан» хозяйки.
Но наиболее романтическое и даже лирическое обжорство описывает Гоголь в «Старосветских помещиках». Ироничная ода счастливой совместной жизни Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны - это ода взаимной заботе, выражаемой прежде всего в стремлении вкусно накормить. Пульхерия Ивановна постоянно потчует любимого супруга пирожками, варениками, домашними соленьями, фруктами и прочими «изделиями старинной вкусной кухни». Мира за пределами ограды сада для них не существует, детей у стариков нет, и, замкнутые друг на друге, они стремятся наполнить жизнь любимого существа удовольствиями. По сути, это все, что им остается. Любовь переплавляется в еду, и, судя по ее количеству, чувство это огромно. Еда становится единственной возможностью создать что-либо из их совместной любви, и эта забота превращается в самореализацию, в смысл жизни.
Недаром первая «бытовая» просьба Пульхерии Ивановны к ключнице на смертном одре - «чтобы на кухне готовилось то, что он [Афанасий Иванович] любит », а растерянный муж, не зная, как помочь умирающей старушке, предлагает ей «что-нибудь покушать». И, впервые разрушая их счастливый пищевой круговорот, она не отвечает ему и умирает. Но и память о ней воспринимается вдовцом через призму еды: видя некогда любимые покойницей мнишки со сметаной, Афанасий Иванович, несмотря на все попытки удержаться, горько и безутешно плачет. Примечательно, что предчувствие смерти приходит к старику именно в саду, по которому супруги любили гулять вместе и удивительное плодородие которого вызывает четкие ассоциации с райским садом.

Параллель «любовь-еда» ярко проявляется и в других произведениях русской литературы. Возвращаясь к «Анне Карениной», вспомним огромную грушу, которую Стива Облонский привозит жене (и в этот же день его, счастливого и беспечного, разоблачат в измене). Столь же показателен трогательный момент из гораздо более позднего «Хождения по мукам» А.Н. Толстого, где Телегин неловко пытается позаботиться о Даше в их первую встречу, выбрав ей самый «деликатный» бутерброд и предложив карамельки из своего кармана. «Как раз мои любимые карамельки », - отвечает девушка, пытаясь сделать ему приятно - и на метафорическом уровне принимает его ухаживания, симпатию и, в конечном счете, самого Телегина.
Гастрономический рай или блины-убийцы
Еще один крупный роман, в котором бесконечно важен символизм пищи - «Обломов» И.А. Гончарова. Еда в нем тоже становится синонимом любви. Идеальный образ Обломовки в воображении Ильи Ильича - райская картина, сотканная из любви и сна. Полнота жизни воплощается в ломящемся от снеди обеденном столе, и не удивительно, что Обломову понятнее «пищевой» язык любви хлопотливой хозяйки Агафьи Тимофеевны, потчующей его различными вкусностями, нежели попытки прекрасной Ольги пробудить его к жизни.
Даже фамилия Пшеницыной - «говорящая», и в романе ее образ то и дело перекликается с темой выпечки. То Обломов посмотрит на нее, как на «горячую ватрушку», то хозяйка угощает барина пирогом, который «не хуже обломовских».
Причем каждый раз этот процесс угощения подчеркнуто телесен и чувственен: из-за занавески высовывается обнаженная рука Агафьи с тарелкой, на которой дымится свежеиспеченный пирог.
Удовольствие от еды соединяется с эротизмом голого тела - и погружает несчастного Илью Ильича все глубже в бездну сонной приземленности. Недуг Обломова - «отолщение сердца» - тоже ассоциативно связан с темой чревоугодия, и также показательно то, что он, понимая, что «переполнять ежедневно желудок есть своего рода постепенное самоубийство », все же не может остановиться. Здесь тема еды обретает еще одно измерение: соотнесение ее с темой поглощения и смерти. Ассоциативных примеров в романе предостаточно: послеобеденный сон в Обломовке, названный автором «истинным подобием смерти»; упоминание о деревенских гусях, которых подвешивают неподвижно, чтобы они заплыли жиром; мысли барина о «непокладных» руках Агафьи, которые «накормят, напоят, оденут и обуют и спать положат, а при смерти закроют <…> глаза».
Еще любопытнее отношения между едой и смертью обыгрываются в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Иудушка Головлев, любитель уменьшительно-ласкательных окончаний и разговоров за чаем, строгий ревнитель «обеденок» и «панихидок» не раз называется в книге «пустоутробным». Это определение можно отнести как к внутренней пустоте героя, так и к его ненасытному голоду до материальных благ. Этот голод, чувство нужды и свою скаредность постепенно окутывает все барское имение, по мере того, как Порфирий Владимирович прибирает к рукам все новые и новые владения.
Трио «голод-вкус-сытость» проходит через весь текст романа. Многоречивые отповеди Иудушки сравниваются с «камнем, поданным голодному человеку», и автор сам задается вопросом, сознает ли герой, «что это камень, а не хлеб», но в любом случае «у него ничего другого не было». В конце романа Головлево предстает воображению Анниньки как «сама смерть, злобная, пустоутробная», как место, где кормят протухшей солониной и попрекают каждым лишним куском.
Удовольствие от еды соединяется с эротизмом голого тела – и погружает несчастного Илью Ильича все глубже в бездну сонной приземленности.
Тема гниения и разложения становится закономерным «мостиком» между темой еды и смерти, и рассказ из начала книги о том, как англичанин на спор съел дохлую кошку, закономерно вплетается в этот метафорический ряд.
Еще одна пищевая параллель - «сладко-горько» - часто появляется в речах Иудушки. Как правило, в отношении «горьких», но заслуженных родительских слов и желания «сладенького», которое нужно сдерживать. Единственный, кому в сладком Головлев до поры до времени не отказывает - это его мать, которой у сына «и тепленько, и сытенько». Конфликт с братьями также нередко передается через «пищевые» образы, начиная с детства, когда Иудушка спрятал яблоко к себе в шкаф, а брат Володя нашел его и съел, и продолжается сравнением детей, лишенных наследства, с «выброшенными кусками». Отделение этих «кусков» углубляет тему раздробленности, разложения, деления целого на части и их поглощения.

Примечательно, что, пирог, символ семейного единства и изобилия, столь часто упоминающийся во многих русских произведениях, в «Господах Головлевых» появляется редко. Однако контекст его появления всегда «говорящий». По ходу действия дважды встречается упоминание о том, что мать не дает пирог своим детям, которых держит впроголодь - и когда они были маленькими, и когда выросли. Нелюбимый старший сын Степка-балбес в детстве забирался на кухню и воровал там пирог (показательная метафора получить любовь во что бы то ни стало), но, став взрослым, понял безнадежность своих усилий. Приехав в гости к матери, он узнает, что к обеду ожидается, в числе прочего, малиновый пирог со сливками, и с горечью резюмирует: «сгноит, но <мне> не даст».
Единственный пирог, поедание которого в романе описано воочию - поминальный, соединяющий в себе символику и яства, и смерти.
Непосредственно соединяются еда и смерть в небольшой, но очень выразительной юмореске А.П. Чехова «О бренности». В ней надворный советник Семен Петрович Подтыкин тщательно готовится к поеданию блинов: обливает их маслом, икрой, сметаной, накрывает жирными кусками соленой рыбы, и… умирает от апоплексического удара, не успев отведать лакомства. Стала ли убийцей Подтыкина нелепая случайность или же, хотя бы отчасти, виновата неумеренная страсть к еде? Говоря «страсть», мы подразумеваем и эротический оттенок, который то и дело проглядывает в этой зарисовке: при виде богатых закусок лицо надворного советника «покривило сладострастие», да и сами блинчики передним «пухлые, как плечо купеческой дочки».
Это не единственное упоминание писателем блинов в контексте Танатоса. В масленичном рассказе «Глупый француз» Чехов тоже обращается к теме смертельного (во всех смыслах) чревоугодия. Приезжий французский клоун Пуркуа становится свидетелем обжорства русского кутилы, и, глядя за тем, как тот заказывает себе новые и новые блюда, приходит к выводу, что тот хочет покончить жизнь самоубийством. Француз решает спасти несчастного и кончается все, как это часто бывает в произведениях Антона Павловича, конфузом. Тема чревоугодия, уже не в «смертельном» контексте появляется и в других рассказах и пьесах Чехова. Иногда как трагикомическое противопоставление чувствам героев (знаменитая «осетрина с душком» в «Даме с собачкой»), а иногда - как предмет почти сочувственной иронии. Ярчайший пример - рассказ «Сирена», целиком посвященный непобедимому «пищевому сладострастию».
Осетрина второй свежести и нарзан из иной жизни
От образа смерти до образа рая (в том числе и потерянного) - всего один шаг, и многие писатели (особенно в XX веке) трактовали еду именно как отражение «потерянного рая». Именно такое ощущение создается при прочтении романа «Лето Господне» И. Шмелева.
Детская радость жизни, изобилие и многокрасочность окружающего мира, восхищение каждой его мелочью - все это создает ощущение идеального мира, который в конце книги разрушается на глазах читателя вместе со смертью отца главного героя.

Но, пока роковое событие не случилось, перед нами предстает и выразительная картина постного рынка, и накрытого к различным религиозным праздникам стола, и детских лакомств.
В «Лете Господнем» еда становится символом блаженства, и зиждется оно на определенности. Праздничный календарь строго соблюдается в семье главного героя, и через эту череду событий, в потоке строго регламентированного времени он воспринимает окружающий мир. Смена традиционных блюд на столе месяц за месяцем делает ощутимым и предсказуемым ритм жизни. Тем сильнее столкновение мальчика с горем, когда в связи со смертельной болезнью отца традиционный ход вещей нарушается. И снова именно еда помогает автору продемонстрировать трагический раскол детской вселенной на «до» и «после»: соборовавший умирающего отца героя протодьякон, пытаясь утешить детей, дает им по «свадебной» конфете. Эта неуместность праздничного лакомства на похоронах производит глубокое впечатление на ребенка и становится первым предвестником непростых жизненных перемен, ждущих его потом. В позднейшем произведении И. Шмелева «Солнце мертвых» о тяжелых временах Гражданской войны пугающе ощутимо описаны «голод, и страх, и смерть». Слово «сытость» и его производные встречаются в тексте книги всего 2 раза. (Для сравнения - слово «голод» и его производные - 67 раз). Но это «лето» навсегда останется в памяти лирического героя лакомым и безоблачным.
Единственный пирог, поедание которого в романе описано воочию – поминальный, соединяющий в себе символику и яства, и смерти.
Еще один писатель, отношение к еде которого можно без сомнения назвать «ностальгическим» - М.А. Булгаков. В страшные годы революции, последующей «бескормицы» и глобального социального переустройства культура питания также полностью изменилась. Немало злой иронии адресовал писатель на страницах своих романов и повестей новому мироустройству, уделив внимание и гастрономическим переменам. Как не вспомнить «осетрину второй свежести» и краковскую колбасу, ядовитые замечания о «третьедневочных судачках» и столовых «нормального питания». Все эти нововведения ощущаются автором как нарушения нормы, устоявшегося жизненного ритма, и автор, хоть и не без самоиронии, тоскует о невозвратимом прошлом.
Эту тоску о былом разделяют и его герои: интеллигент профессор Преображенский из «Собачьего сердца», который пытается сохранить домашний порядок таким, каким он был до революции, Фока и Амвросий из «Мастера и Маргариты», тоскующие о стерляди, филейчиках, вальдшнепах и яйцах-кокотт. Однако на семге, нарезанной тончайшими ломтиками и икре в серебряной кадушке, обложенной снегом, уже лежит печать обреченности. «Принимать пищу» Преображенского и «харчеваться» Шарикова несовместимы, как на смысловом, так и на чисто фонетическом уровне. Потерянный рай уплывает в прошлое и становится недостижимым. И когда Булгаков с шутливо преувеличенным восторгом ностальгирует устами двух гурманов о яствах прошлых времен и «шипящем в горле нарзане», то в этом шипении звучат едва слышные слезы.

Любовь и смерть, сытость и всепоглощающий голод, райское изобилие или яд и гниль - тема еды таит в себе десятки, если не сотни возможных трактовок. Отношение к принятию пищи затрагивает как телесный, так и духовный аспект человеческой личности, и именно их слияние и взаимообогащение заставляет гастрономические образы в литературе быть такими понятными и ощутимыми. Однако еда не только уже давно вошла в литературу - саму литературу нередко обсуждают с помощью кулинарных категорий: «хороший вкус», «пища для ума», «вкусный» текст. Остается только избегать книжного фаст-фуда и наслаждаться искусством гениальных шеф-поваров слова. ■
Наталия Макуни
Литература
- Чехов А.П. О бренности, 1886.
- Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлевы, 1875-1880.
- И. А. Гончаров. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 4. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1953.
- Гоголь Н.В. Старосветские помещики. // Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Повести. Комедия «Ревизор». - Алма-Ата: Жазушы, 1984.
- Толстой А.Н. Хождение по мукам. 1921-1941.
- Толстой Л.Н. Анна Каренина. // Толстой Л.Н. Анна Каренина: Роман в 8-ми ч. М.: Худож. Лит., 1985.
- Пушкин А. С. «Евгений Онегин». // А. С. Пушкин. Избранные сочинения в 2-х т. Т. 2. Романы. Повести. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1996.
- Державин Г.Р. Фелица // Г.Р. Державин. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1957.
Иван Сергеевич Шмелев (21.IX/3.X.1873, Москва - 24.VI.1950, Бюсси-ан-Отт, похоронен под Парижем) дебютировал как прозаик в 1895 г., опубликовав в журнале «Русское богатство» рассказ «У мельницы». В 1897-м вышла в свет его книга путевых очерков «На скалах Валаама», которая не имела успеха у читателей. К литературному труду он возвратился спустя десять лет. Его произведения 1900-х годов были написаны на современном материале, их герой - «маленький» человек («Вахмистр», «Иван Кузьмин», «По спешному делу», «Распад», «Гражданин Уклейкин»).
Литературную славу И. Шмелеву принесла опубликованная в 1911 г. в XXXVI сборнике «Знания» повесть «Человек из ресторана», в которой была выражена в традициях прозы Н.В. Гоголя и «Бедных людей» Ф.М. Достоевского тема бедных и бесправных, «маленьких» людей, а также знаньевская ориентация на социальные конфликты и протесты, на осуждение довольных и сытых. В повествовании официанта Якова Скороходова о благополучных посетителях ресторана представлен социальный срез богатых российских сословий. Однако уже в этом рассказе И. Шмелев заявил о своей трактовке традиционной, устоявшейся в русской литературе темы. Он ориентировал читателя не на сострадание «маленькому» человеку по Достоевскому и не на его социальное противостояние по Горькому, а на спасение человека, его духовное возрождение через мобилизацию внутренних сил, данных ему Господом. Скороходов в какой-то мере моралист-христианин, он утешается Высшим Промыслом. Тема внутренней победы человека, концентрации его духовных и физических возможностей как результат православного мировосприятия, заявленная И. Шмелевым в «Человеке из ресторана», доминирует во всем его творчестве.
Следующий шаг в творческой судьбе И. Шмелева был связан с «Книгоиздательством писателей в Москве», с тем кругом литераторов, которых критика объединила понятием «неореализм». Социальные темы, ориентация на объективное отражение реальности, событийность уступили место иным, неореалистическим, тенденциям, приоритетными стали авторское видение мира, впечатления персонажей от происходящего, лиризм в изображении действительности, сюжетная незавершенность и т.д. В «Росстанях» (1913) И. Шмелев уделил максимальное внимание бытовым деталям, которые не только служили художественным фоном, а выражали прежде всего эмоциональное, субъективное начало повествования.
В тот же период И. Шмелев обратился к иному герою - к патриархальному крестьянину. Уже в его дореволюционном творчестве начала формироваться концепция национального характера и в связи с этим тема исконности, русскости (например, цикл «Суровые дни», 1916), которая наравне с темой возрождения человека, преодоления им земного зла становится одной из главных в послереволюционном творчестве писателя.
Как многие интеллигенты, писатель поверил в Февральскую революцию и категорически не принял Октябрьскую. Вместе с семьей он обосновался в Алуште. Здесь он создал повесть «Неупиваемая чаша», цикл «В Сибирь за освобожденными», «Пятна», сказки. У него еще сохранялись надежды на преодоление разрухи, силу и сознание хозяина, реставрацию привычного уклада. Однако в Крыму он стал свидетелем трагедии многотысячной Добровольческой армии, массовых казней белогвардейцев. Там же красными был расстрелян его сын.
Весной 1922 г. И. Шмелев возвратился в Москву, ему удалось выхлопотать разрешение на выезд из России, 20 ноября вместе с женой он покинул родину. Шмелев поселился в Берлине, затем, с января 1923 года, - в Париже. В России он опубликовал 53 книги своих произведений, их повторное издание составило восьмитомное собрание повестей и рассказов.
Революция была воспринята Шмелевым как русский апокалипсис. В 1923 г. он написал автобиографическую прозу о Крыме времени большевиков «Солнце мертвых», об умирании когда-то сотворенного Господом мира, жанр которой он обозначил как «эпопею». Созерцающий гибель земного рая герой-рассказчик, окруженный голодной крымской живностью, в мыслях своих, как ветхозаветный муж, обращается к вечности - палящему солнцу, морю, ветру и находит утешение в Боге. Господь укрепляет его веру в бесконечность мира, в вечную жизнь души, помогает сохранить покой и волю, не оказаться своим в той звериной, древней, пещерной жизни, где едят кошек, крадут коров, конфискуют библиотеки, выгоняют из собственных домов, где горсть пшеницы дороже человека и где «убивать ходят».
Написанная в притчевой манере глава о карательной миссии красных «Кто убивать ходят» выражает эсхатологическую, апокалипсическую тему «эпопеи»: время повернулось вспять, к пещерным предкам, черти вот-вот «начнут бить в стены, трясти наш домик, плясать на крыше», и много работы прибавилось тем, «кто убивать ходят» - «за горами, под горами, у моря», они уставали, «нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги», убить надо было много, более ста двадцати тысяч.
Два персонажа «Солнца мертвых» - рассказчик и доктор - ведут спор об истории, времени, смерти и вечности. Если Крым стал «ликующим кладбищем» с ненужностью дней и если «от самого Бела Куна свобода убивать вышла», то и часы, как замечает доктор, строго воспрещены, и время для него остановилось, и от него уже пахнет тленьем. Доктор перестает верить в бессмертие души. Он уверен, что ныне жизнь человека укладывается между «помойкой», в которую красные превратили землю, и небытием («от помойки в ничто»). Новую власть доктор воспринимает провиденциально: «хулиган» пришел и сорвал завесу с «тайн».
В личной жизни доктора бытие «помойки» выразилось в смерти его жены и невозможности похоронить ее по-людски. Свой последний приют она находит в собственном приданом - гробом служит шкаф, в котором когда-то хранилось абрикосовое варенье. Доктор готов создать философию реальной ирреальности, религию «небытия помойного», при котором кошмарная сказка становится былью и бахчисарайский татарин, как баба Яга, засаливает и съедает свою жену. По всему Крыму за три месяца доктор насчитал восемь тысяч вагонов человечьего мяса, трупов людей, расстрелянных без суда и следствия, - то был «вклад в историю... социализма».
Трагедия доктора не только в том, что гибнет мир, но и в том, что душа его утратила веру, состояние покоя и воли. Он проводит над собой эксперимент и приходит к выводу о том, что голод парализует волю. Его смерть во время пожара - словно наказание адским огнем за неверие в Божью помощь, силу добра и бессмертную душу. Ему воздалось по вере его.
Оппонент доктора, рассказчик, верит в «светлый конец жизни», в свою вечную душу, бесконечное сосуществование ее с синими крымскими горами. Концепция жизни И. Шмелева близка философской теме бесконечности бытия в творчестве И. Бунина. В «Солнце мертвых» выражена идея, которая лежит в основе философского эссе И. Бунина 1925 г. «Ночь». Герой «эпопеи» рассуждает: «Когда эти смерти кончатся! Не будет конца, спутались все концы - концы-начала, жизнь не знает концов, начал...» Господь воздает герою за веру его - и старый татарин присылает ему подарок: яблоки, муку, табак. Эту посылку герой воспринимает как весть неба. Шмелеву важно донести до читателя тему праведничества: не один рассказчик верен Богу, в воскресение мертвых верит девочка Ляля, а у засыпающего крымского моря еще живут праведники и с ними их «животворящий дух».
Символ солнца мертвых дан Шмелевым в соответствии с православной верой. Он определяет как мертвую жизнь тех, кто сыт, благополучен, принимает жизнь по газетам и глух к людскому горю, кто не возлюбил ближнего.
Авторская сосредоточенность на темах борьбы за душу, духовного преодоления зла, воздаяния по вере, на конфликте апокалипсических явлений и воскресения отличает «эпопею» от близких ей по жанру, по автобиографическому материалу, по дневниковой форме, по усиленному субъективному лирическому началу «Окаянных дней» И. Бунина и «Взвихрённой Руси» А. Ремизова. Однако критики русской эмиграции выделяли в «Солнце мертвых» и в творчестве И. Шмелева в целом совсем иные мотивы, для писателя по сути уже не главные, вторичные: утвердилось мнение о влиянии на его прозу эмигрантского периода художественного мира Ф.М. Достоевского с его темами боли и страдания. Так, Г. Струве метафизический смысл образа доктора свел к прямолинейной ассоциации с героями произведений Достоевского: «Полусумасшедший доктор Михаил Васильевич в «Солнце мертвых», страдающий некоторым недержанием речи, рассказывающий «занятные» истории, перескакивающий с предмета на предмет и кончающий тем, что сжигает себя на своей дачке и его сгоревшие останки узнают по какому-то особому бандажу, о котором он любил говорить, как будто вышел со страниц Достоевского, хотя в правдивости и жизненности его изображения ни на минуту не возникает сомнения». В написанных позже романах Шмелева Г. П. Струве усмотрел «достоевщину».
Г. Адамович в книге «Одиночество и свобода», изданной в Нью-Йорке в 1955 г., также трактовал эмигрантское творчество И. Шмелева в рамках традиции Достоевского и упрекал писателя в «достоевщине», т е. в изображении лишь атмосферы, созданной Достоевским, а именно - жалости, обиды, страдания, бессилия и прочего, в то время как философия Достоевского, сомнения Ивана Карамазова или тоска Ставрогина от него ускользнули.
Иной взгляд на творчество И. Шмелева высказал философ И. Ильин. В ряде статей и книге «О тьме и просветлении», изданной в Мюнхене в 1959 г., он определил главную тему писателя - преодоление страданий и скорби, без которых нет истории России, через «духовное горение», молитву, «восхождение души к истинной, все превозмогающей реальности».
Мысль о том, что народ может победить большевизм только с Богом, легла в основу публицистики И. Шмелева. В 1924 г. он написал статью «Душа Родины», в которой упрекал русскую дореволюционную интеллигенцию в безбожии: она «царапалась на стремнины Ницше и сверзлась в марксистскую трясину», она отвергла истинного Бога и сделала богом человека; она глушила в народе совесть, внушая ему идеи свободы, равенства и братства; вместо Бога она показала народу «злобу, зависть и - коллектив». Но писатель выражал веру в то, что есть еще русские люди, которые «Бога в душе несут, душу России хранят в себе». Первые из них - «горячая молодежь наша», «буйная кровь России, с Тихого Дона и Кубани, - казачья сила», они - «живые ». И. Шмелев был верен монархии, близок идеям Белого дела, одним из вдохновителей которого являлся И. Ильин. В «маленьких» людях, бывших людях он прежде всего стремился показать тех, кто способен дерзать во имя Бога и освобождения России: «И тогда только окупится вся кровь и все муки; только таким дерзаньем!»
В 1920-е годы И. Шмелев издал сборники рассказов «Про одну старуху. Новые рассказы о России» (1927), «Свет разума. Новые рассказы о России» (1928), «Въезд в Париж. Рассказы о России зарубежной» (1929); в 1931 г. увидел свет сборник «Родное. Про нашу Россию. Воспоминания».
Тема написанных в сказовом стиле рассказов, объединенных И. Шмелевым в сборник «Про одну старуху», - трагедия «бывшего» человека, пережившего революцию, утратившего семью, работу, отторгнутого от нормальной жизни, ненужного советской России, незащищенного, однако пытающегося не только выжить, преодолеть зло, но и вернуть себе разоренный уклад. Героиня рассказа «Про одну старуху» становится «мешочницей», «спекулянткой», добытчицей продуктов для своих голодающих внуков, она проклинает сына-экспроприатора за то, что тот «грабил-издевался».
В «Письме молодого казака» в форме сказа-плача выведен бесприютный казак, потерявший родину, оказавшийся в эмиграции; до него доходят слухи о казнях, расстрелах и безбожии на Тихом Дону. В рассказе трагедия «бывшего» уживается с его верой в то, что не долго ему «чужих косяков слоняться», что поможет ему и родителям на Дону Николай Угодник, Пресвятая Богородица и Спас. В лексике и синтаксисе письма сказалась фольклорная и древнерусская книжная традиция народа, он насыщен классическими для народного сознания образами: у коня «шелкова шерстка» и «белы ножки», ветер герою «шепнул», а «черная птица крачет, бела лебедя когтями точит», «кровью белы руки плачут», Тихий Дон - «батюшка», солнце «красное», месяц «ясный» и т.д. Рассказ написан в ритме плача: «Зачем вы молчите, не говорите, как в земле лежите? Аль уж и Тихий Дон не текет, и ветер не несет, летная птица не прокричит? Не может этого быть, сердце мое не чует» - и т.д. В речи «бывшего» человека заложена та духовная культура, которая дает ему силы для преодоления зла.
Это же несмирение личности, обретение сил для противостояния новому порядку, стремление сохранить свой привычный образ жизни вопреки ходу истории выражено и в судьбах крымчан - обманувшегося революцией романтика-интеллигента Ивана Степановича и расчетливого Ивана («Два Ивана»), и русского матроса Ивана Бебешина, уяснившего, что при Советах «русской власти не видать» и «сукины дети» - революционеры его обманули («Орел»), и «бывшего» человека Феогноста Александровича Мельшаева, при старой власти - профессора, а при советской - фантома, эманации, от которой воняет супчиком из воблиных глазков и прокислой бараниной, превратившегося в «европейца» («На пеньках»).
От темы противостояния злу, преодоления страданий силой духа И. Шмелев в 1930-е годы логически перешел к своему идеалу - к темам Святой Руси, к православным канонам, и этот выбор противопоставил его прозу русской литературе с характерной для нее критической тенденцией.
Создавая в 1930-1931 годах автобиографическую прозу «Богомолье» и «Лето Господне» (1934-1944), писатель обратился к прошлому России. В «Лете Господнем» метафизическое содержание и связанные с ним темы устремленности души и быта русского человека к Царствию Небесному, православного циклического мироустройства и национального менталитета связаны с мотивами трудового цикла, семейного уклада замоскворецкого двора «средней руки» купцов Шмелевых, быта Москвы восьмидесятых годов XIX века. Композиция «Лета Господня» соответствует годовому циклу православных праздников, что в свою очередь согласуется с историей христианства. Если в «Солнце мертвых» речь шла о разрушении мира, то в «Лете Господнем» - о его возникновении с рождения Христа и о вечном развитии. Мальчик Ваня и его наставник Горкин не просто проживают земную жизнь с ее Благовещением, Пасхой, праздником Иверской Божией Матери, Троицей, Преображением Господним, Рождеством Христовым, Святками, Крещением, Масленицей, не только живут по канону, по которому на Спас-Преображение снимают яблоки, а в канун Иван-Постного солят огурцы, но верят в Господа и бесконечность жизни. В этом - концепция бытия по Шмелеву.
Появление новой темы в творчестве И. Шмелева вызвало неоднозначную реакцию в русском зарубежье. Национальный и даже бытовой акцент, который писатель намеренно ввел в религиозную тему, послужил поводом Г. Адамовичу для упреков писателю. В «Одиночестве и свободе» критик высказал мнение о том, что религиозное чувство И. Шмелева несвободно от «условно-национального тона», связанного с житейским укладом, гибель которого для Шмелева значительней, как считал Адамович, чем сама «нетленная сущность» мира.
Противоположный взгляд выразил И. Ильин, отметивший в бытовом и метафизическом началах прозы И. Шмелева не противоречие, а синтез. И. Ильин, размышляя о единстве в русском сознании двух солнц, «материального», иначе - «планетного», и «духовно-религиозного», писал: «И вот Шмелев показывает нам и всему остальному миру, как ложилась эта череда двусолнечного вращения на русский народно-простонародный быт и как русская душа, веками строя Россию, наполняла эти сроки года Господня своим трудом и своей молитвой. Вот откуда это заглавие «Лето Господне», обозначающее не столько художественный предмет, сколько заимствованный у двух Божиих Солнц строй и ритм образной системы».
Анри Труайя в своей статье об И. Шмелеве определил вненациональный, общегуманистический смысл «Лета Господня» - произведения о «календаре совести», о «движении внутреннего солнца души»:
«Иван Шмелев, сам того не сознавая, ушел дальше своей цели. Он хотел быть только национальным писателем, а стал писателем мировым».
В истории литературы «Лето Господне» и «Богомолье» воспринимаются в ряду с такими произведениями о становлении детской души, как «Детство» и «Отрочество» Л. Толстого, «Детские годы Багрова-внука» С. Аксакова, «Степь» А. Чехова. «Богомолье» - повествование о паломничестве Вани, плотника Горкина, старого кучера Антипа, Феди-бараночника. Домны Панферовны с внучкой из Замоскворечья в Троице-Сергиеву Лавру. Сюжет соткан из дорожных эпизодов, свидетелем которых становится Ваня, из описания судеб богомольцев: молодой и немой красавицы, которая лишилась дара речи, заспав своего первенца, а во время паломничества исцелилась, парализованного орловского парня, бараночника Феди.
Событийный ряд, земной путь героев к Лавре соединен в произведении с путем небесным, духовным, с восхождением паломников к Божьей правде. Венцом паломничества становится благословение старца Варнавы. Встреча со старцем вызывает у мальчика слезы религиозного восторга и очищения: «И кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапочку-скуфейку, светлое, доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском. Мне хорошо от ласки, глаза мои наливаются слезами, и я, не помня себя, трогаю пальцем воск, царапаю ноготком подрясник».
Однако Лавра, символ веры, не может заменить мирянину ту жизнь, которая уготована ему судьбой. Человек, по мысли И. Шмелева, и в миру совершает свой православный подвиг, потому старец Варнава не одобряет стремление Феди уйти в монастырь: «...Господь с тобой, в миру хорошие-то нужней!..»
Эта же тема исполнения своего долга в миру прозвучала в повести И. Шмелева 1918 г. «Неупиваемая чаша», герой которой, крепостной художник, вместо подвига монастырского выбирает подвижничество мирское, едет учиться в Европу. В художественном очерке И. Шмелева «Старый Валаам» (1935) писатель и его юная жена во время свадебного путешествия на Валаам ощущают благодать, утешение, просветление, которое, как он замечает, не испытаешь ни от Штирнеров, ни от Спенсеров, ни от Штраусов, ни от Шекспира; молодые возвращаются в грешный мир, и именно в нем после Валаама они готовы жить по вдохновению, принимая радость бытия и веря в будущее.
Рассказчик «Старого Валаама» сопереживает отцу Николаю из Олонецкой губернии, который сослан на Валаам «под начал, на исправление», уже три года замаливает там свои грехи и тоскует о жизни в миру - о попадье, шестерых своих детях и свободе, «на грешную волю рвется», как замечает старый послушник, «в отсечении воли своея не приобвык». Рассказчику «страшно от этих слов», ему понятна драма отца Николая - в батюшке сильна была крестьянская жилка.
В «Старом Валааме» описана обитель праведников, старцев и послушников, которые, в отличие от отца Николая, приняли монастырскую жизнь как свой подвиг. И. Шмелев описывает людей избранных. Они не ублажают тела, «потому оно - прах», а о душе пекутся, они испытывают себя смирением, находя в нем путь во спасение. Для них Валаам - образ рая. Как говорит послушник, старичок в скуфейке, по весне там рай, «соловушки», «ангельское дыхание воздухов, цветики Господни». Именно на Валааме старчество, «Господний посев», неистребимо.
Валаам дает молодой чете веру в бессмертие души. Характерен разговор Шмелевых с отцом Антипой. Их угнетают разговоры о смерти, о крестах, о могилах, им трудно принять образ земной жизни только как приготовление к смерти, на что отец Антипа отвечает: «За могилкой-то и отворится... жизнь вечная. Во Христе... духовному-то человеку», - и от этого «вразумления» им стало легко и поверилось в бесконечность.
«Лето Господне», «Богомолье», «Старый Валаам», а также повесть «Куликово поле» (1939-1947) отразили убежденность И. Шмелева в исключительности русского народа, который, как он считал, был создан Для искания Божьей правды. Пытаясь найти объяснение самому факту победы большевиков в России, он утверждал, что именно во имя поиска Божьей правды русский народ «пошел и за большевизмом, но был жестоко обманут и оскорблен. Он наивно поверил и в «правду» большевизма. Писатель верил в прозрение народа. В июньском письме 1926 г. М. Вишняку он писал о том, что скоро «вышибут стяги... носителей социализма».
С героями повести «Куликово поле» происходят мистические события, которые подтверждают идею И. Шмелева об исторической избранности русского народа. Православный народ, как пишет Шмелев, не может расстаться с верой в правду «почти фи-зи-чески». Мистические события символизируют высшее указание, перст Божий. Василию Сухову, лесному объездчику при купцах и при советской власти, человеку, испытавшему и личное горе (одного сына убили на войне, другого «комитет бедноты замотал за горячее слово»), и народное, соборное («все погибло, и ни за что»), является на Куликовом поле Святой Сергий Радонежский, с которым он передает старинный медный крест, знамение спасения, его господам Средневым в Сергиев Посад.
Герои повести - «бывшие» (бывший следователь, бывший профессор, бывший ученик В.О. Ключевского). И верующая в Божий промысел дочь профессора Среднева Оля, и материалист профессор Среднев, и маловер рассказчик, следователь, вынуждены поверить в то, что явившийся в Сергиев Посад посланник - Сергий Радонежский.
Внутреннее преображение героев повести раскрывает философскую тему всего творчества И. Шмелева - бессмертия и душевного покоя как данного Богом счастья. Как только следователь решает разобраться в таинственной истории с крестом, к нему приходит ощущение, что «времени не стало ... века сомкнулись... будущего не будет, а все ныне »; Оля после встречи со старцем почувствовала, «будто пропало время, не стало прошлого, а все - есть », и покойная мама и покойный брат - с нею, потому что «живем ли, или умираем, всегда Господни», «у Господа ничего не умирает, а все - есть ! нет утрат, а... всегда, все живет ». От слов старца на Василия Сухова повеяло покоем; в доме Среднева повеяло «спокойствием уклада исчезнувшего мира», после встречи со старцем профессор стал как путник, «желанный покой обретший»; отец и дочь после благословения старца испытывают чувство «безмятежного покоя»; следователю показалось, что от Лавры «веяло покоем», а когда он все-таки поверил в явление Святого, сам стал «светло спокоен», и оттого его «сердце ликует» и он испытывает «чувство освобождения». Сошедший на героев повести покой приносит им ощущение воли. С помощью Бога повествователь одерживает внутреннюю победу «над пустотой в себе».
В эмиграции И. Шмелев создал несколько романов: «История любовная» (1929), «Няня из Москвы» (1936), «Пути небесные» (1937-1948); незаконченными остались роман «Солдаты», публикацию которого начали «Современные записки» в 1930 г., и «Иностранец», публиковавшийся в «Русских записках» в 1930 г.
Роман «Няня из Москвы» написан И. Шмелевым в стиле сказа: оказавшаяся в эмиграции старая русская няня рассказывала за чашкой чая о русских бедах - революции 1917 г., бегстве из России, жизни беженцев, а также о развивающейся по канону авантюрного романа любовной истории ее воспитанницы Кати и молодого соседа. Сказ художественно мотивировал смещение временных периодов - эмигрантского и московского. Сама няня Дарья Степановна Синицына была для Шмелева олицетворением народа: в письме к К.В. Деникиной он указывал на связь этого персонажа с «человеком из ресторана», на право няни судить господ по своей, народной, правде. Так, из рассказа няни читатель узнавал, что отец Кати, известный московский доктор, тратил деньги не только на содержанок и бега («И на что же денежки эти шли-и... в прорву, на баловство, в свой мамон»), но и на революцию. Няня же считает целесообразным тратить господские деньги «для души» («Ну, на церкву бы подали, для души, или бы сиротам помогли...»). Лишь перед смертью доктор осознал, что обманулся революционными идеалами.
«История любовная» повествует о том, как юный Тоня под впечатлением от «Первой любви» И. Тургенева переживает восторги и муки любви к горничной Паше и к молодой соседке Серафиме. Любовное томление умирает, как только он во время любовного свидания обнаруживает, что прекрасная Серафима - обладательница стеклянного глаза. Мертвый взор искусительницы Серафимы - образ плотского греха: в канун православного праздника она увлекает Тоню в Чертов овраг и там решает научить его любви. Уходит в монастырь Паша, в метафизическом смысле - его спасительница. И. Шмелев противопоставил любви-инстинкту любовь спасительную.
В «Путях небесных» писатель поставил своих героев перед выбором «путей земных», греховных, плотских, или «путей небесных», добродетельных. Виктор Алексеевич Вейденгаммер, увлекшись немецкой философией и естественными науками, «стал никаким по вере»; в нем росла страсть «духовно опустошить себя». Он полагал, что «вся вселенная - свободная игра материальных сил», без Бога и дьявола, без добра и зла. В любви для него не было понятий нравственности и разврата, поскольку сама любовь - «лишь физиологический закон отбора, зов, которому, как естественному явлению, полезней подчиниться, нежели сопротивляться». Таким образом, уже заявленная в русской литературе И. Буниным тема любви как естественной потребности человека была представлена И. Шмелевым в этом романе негативно - в абсурдном варианте.
Духовное созревание героя, постижение им «путей небесных», вера в Бога - все это развивалось в герое по мере того, как расцветала его любовь к Дариньке, «девчонке-золотошвейке», сироте, послушнице в монастыре. Духовная миссия героини - привести к Богу своего возлюбленного; в этом видит ее земной долг старец Варнава.
Роман завершился Божьим прощением земных страстей героев, их плотских грехов. Вейденгаммер вслед за Даринькой обратился к «небесным путям». Знамением неба стал звездный ливень в конце романа. Как писал И. Шмелев, «с того глухого часу ночи начинается «путь восхождения», в радостях и томленьях бытия земного». Как в финале «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского Раскольников, обратившись к принесенному Соней Евангелию, близок к мысли о согласии, единстве ее убеждений и чувств с его убеждениями, чувствами и стремлениями, так и в финале «Путей небесных» подаренное Даринькой Виктору Алексеевичу Евангелие стало знаком их духовного единения в Боге.
Их запретную любовь, неузаконенное сожительство И. Шмелев осудил как грех. Если в жизни Виктора Алексеевича Даринька стала средством «высвобождения из потемок», то для нее любовь явилась «греховным счастьем, страданием искупаемым». Жизнь «в блуде» наказана Господом - Даринька становится бесплодной. Ювелиры, портнихи, Пассаж, влюбленность в красавца Вагаева, чернобурая ротонда и прочее - все это в восприятии Дариньки было соблазном, обольщением. Ее «земной путь» превратился в душевную муку, ее душа потеряла покой. Характерны названия глав романа - «Обольщение», «Помрачение», «Грехопадение», «Прельщение», «Отчаяние», «Дьявольское поспешение» и т.д. Многозначительно упоминание о том, что Виктор Алексеевич читал роман Л. Толстого «Анна Каренина».
Любое событие понимается героиней как знак, знамение, напоминание о скорбном и вечном. Петербургское увлечение Виктора Алексеевича венгеркой в зеленом бархате трактуется И. Шмелевым как бесовское искушение, упоение чумой: раскаявшемуся герою этот любовный сюжет напомнил пушкинские строки «И девы-розы пьем дыханье - / Быть может - полное Чумы!»
Душа Дариньки, как и душа Виктора Алексеевича, представлена в романе в христианских традициях - это «поле брани между Господним светом и злой тьмой». Героине удается избежать падения: она жертвует своей страстью к Вагаеву. От плотского греха с ним ее спас «крестный сон»: она увидела свое собственное распятие на кресте и тем «причастилась Господу». В ее образе определенно сказалось влияние нравственных норм житий, в ней есть черты праведных жен из произведений древнерусской литературы.
В «Путях небесных» автор полемизирует с теми писателями, которые заняли прочное место на литературном Олимпе. Так, философское определение любви в романе И.С. Шмелева было противоположно тому, что уже не одно десятилетие предлагал в своей прозе И.А. Бунин, для которого всякая любовь, в том числе и грешная, непристижная, тайная, - свята. Отвергая идею греховности любви, не разделяя в любви земное и небесное начало, он оправдывал это чувство христианской моралью. В рассказе 1914 г. «Святые» Бунин, обратившись к традиции агиографического жанра, повествовал о грешной любви блудницы и мученицы Елены, получившей прощение, поскольку любовь, по апостольскому учению, прикрывает несметное множество грехов. Такой вывод рассказчика Арсенича по сути был вольной цитатой из Первого послания апостола Петра. Примечательно, что Даринька, увлекшись Вагаевым, «металась», называла себя блудницей и при этом искала оправдания страстям своим в грехах святых грешниц, обращаясь к житиям преподобной Таисии-блудницы, прельстившей многих своей красотой мученицы Евдокии, отроковицы-прелестницы Мелетинии; она желала «дерзанием пасть всех ниже, грехом растлиться и распять себя покаянием». Однако Божий промысел удержал героиню от рокового испытания. Таким образом, христианское учение в творчестве Шмелева и Бунина явилось оправданием для исключающих друг друга концепций любви. Примечательно, что Шмелев осуждал Бунина за цикл «Темные аллеи».
Первый том романа вышел в свет в 1937 г., второй - в 1948. И. Шмелев предполагал написать еще два тома, но замысел так и не был осуществлен. Автор называл «Пути небесные» «опытом духовного романа». Его главная тема - спасение души, преодоление пропасти между человеком и Богом. В определенной степени роман И. Шмелева противостоял философским концепциям экзистенциалистов. Любовный сюжет стал для него средством выражения духовных, религиозных исканий. Сама сюжетная линия героя романа была знаменательной - в начале века, во времена первой мировой войны некоторые русские интеллигенты принимали монашество.
Однако современники отмечали в романе сентиментальность, религиозный мистицизм и морализаторство. Так, Г. Струве писал: «В романе почти на каждом шагу - символы и «чудеса», самое обилие которых (а порой и тривиальность их) ослабляет их действие и скоро пресыщает и утомляет читателя... Ни самое Дариньку, ни ее отношения к Вейденгаммеру нельзя признать убедительными. Шмелев, по-видимому, носился с мыслью написать третий том, так что мы не знаем, какую окончательную судьбу готовил он своим героям, но тема «провиденциальности» и в первых двух томах проведена с чрезмерным нажимом педали... Но в целом «Пути небесные» производят аляповатое впечатление. Часто, когда Шмелев хочет добиться патетического эффекта, он вызывает у читателя невольную улыбку». Метафизический смысл «Путей небесных» признал А. Амфитеатров, который в статье 1937 г. «Святая простота» констатировал, что написать роман с исповеданием твердой веры в эпоху материализма - подвиг.
Над второй частью «Путей небесных» И. Шмелев работал во время войны. После войны его упрекали в коллаборационизме. В мае 1947 г. в статье «Необходимый ответ» писатель вынужден был дать пояснения относительно своего сотрудничества в «Парижском вестнике», русской газете, издававшейся с разрешения оккупационных властей. И. Шмелев писал: «А я утверждаю совсем обратное: я работал против немцев, против преследуемой ими цели - в отношении России». Публикуя в «Парижском вестнике» главы из «Лета Господня», рассказ «Рождество в Москве», он стремился показать истинный лик России в ту пору, когда немецкая пропаганда представляла ее «историческим недоразумением», «великой степью», русских - «дикарями».
И.С. Шмелев умер 24 июня 1950 г. в обители Покрова Пресвятой Богородицы в Бюсси-ан-Отт в 150 километрах от Парижа от сердечного приступа.