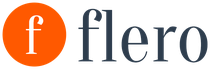Смех в европейской литературе и культуре — как и практически все, что есть в европейской литературе и культуре, — начинается с античности. И пожалуй, первой формой организованного смеха стала античная . Конечно, греки, как и все нормальные люди, смеялись, по всей видимости, всегда, но в V веке до нашей эры мы впервые сталкиваемся с тем, что смех становится сознательной частью культуры, причем даже большей, чем литература. Именно этот феномен и называется древней аттической Аттика — область в Греции. Центр — город Афины. комедией.
Древняя аттическая комедия — это удивительное явление в истории культуры, даже с современной точки зрения, потому что она является не только жанром литературы, но и частью жизни по крайней мере одного города — Афин. Более того, комедия — одна из важнейших составляющих текущей жизни города, поскольку представление комедий (и ) было частью центральных , которые в Афинах праздновались довольно часто: Малых и Великих (посвященных богу Дионису, который считался покровителем театра) и некоторых других.
Откуда взялась комедия? Это отдельный и сложный вопрос, которым сейчас даже не принято особенно заниматься. Относительно него есть примерно то же решение, что в свое время Французская академия наук приняла относительно вечного двигателя: новые версии впредь не рассматривать.
Тем не менее ясно, что у комедии есть мифологические, фольклорные, религиозные истоки, но какие конкретно — мы не знаем. У нас есть много древних рассказов о том, что раньше люди ходили по деревням и пели всякие, как мы бы сейчас сказали, ругательные или поносные песни в адрес своих сограждан, — и вроде бы из этих песен и родилась комедия. Действительно, такие праздники существуют в разных культурах — и у нас они даже до сих пор сохранились в виде каких-нибудь колядок. Вероятно, были и какие-то иные корни.
Но так или иначе, комедия произошла из очень глубинного мифологического представления о том, что человека — хорошо, потому что это некоторым образом уравновешивает состояние мира: если ты человека ругаешь, то дальше у него все будет неплохо, а если хвалишь, то могут быть всякие неприятности. Это представление сохранилось во многих приметах и ритуалах, например в том, что новорожденного ребенка нельзя хвалить. Примерно то же самое было и в Греции.
Замечательно, что эта ругань становится составляющей важнейшего действа в истории и жизни весьма развитого культурного центра Греции — Афин V века до нашей эры.
Почему? Прежде всего, как обычно считается, благодаря ее политическому сообщению: комедия не только смешила, но и несла некоторые политические идеи. Аристофан пишет ее в 405 году до нашей эры. Это конец Пелопонесской войны между Афинами и Спартой, которую Афины все время проигрывали, но незадолго перед постановкой этой комедии одержали морскую победу — и появились некоторые надежды на успех.
Именно с этим связано важное политическое сообщение комедии. По тексту бог театра Дионис отправляется в подземное царство, чтобы вернуть в город трагика: все великие трагики умерли, а чтобы город победил в войне, нужен великий поэт. В подземном царстве два великих трагика — Эсхил и Еврипид, и выбор определяется тем, кто из них даст лучший совет городу. И хотя Дионис изначально отправился в подземное царство за Еврипидом, обратно он приводит Эсхила, потому что тот дает самый замечательный совет: с одной стороны, вернуть изгнанников в город, а с другой — уповать на флот.
Это вызывает большое одобрение в обществе, и нам объясняют, что именно политическая составляющая комедии является залогом ее успеха. Парадокс, правда, заключается в том, что второй раз эта комедия, главная идея которой — уповать на флот, была поставлена, по всей видимости, после того, как афин-ский флот потерпел сокрушительное поражение в битве при Эгоспотамах, после чего Пелопонесская война закончилась. Политическая идея комедии оказалась абсолютно неправильной — и тем не менее пьеса ставится второй раз. Этого никто никак не может объяснить.
Одно из возможных объяснений заключается в том, что эта политическая идея правильная, потому что она соответствует тому, что думает народ. И ее окон-чательная неправильность не является упреком комедии. В комедии все было сказано хорошо, а то, что получилось на деле, — ну, не получилось. К комедии это не имеет прямого отношения. Политика в комедии присутствует, но, по всей видимости, главное — не само ее наличие, а то, как она вплетена в общую структуру. Оказывается, что политическое содержание имело сиюминутный смысл, но «Лягушки» ценны для нас и, судя по этой второй постановке, для афинской аудитории не только и не столько этим.
Чем же? По всей видимости, тем, что в этом произведении разные уровни, разные смыслы комедии были сплетены, быть может, самым замечательным образом. И это как раз к вопросу о том, над чем смеялись и как смеялись в афинской комедии.
Смеяться зритель начинал, прямо когда герои выходили на . В первой сцене бог Дионис появляется вместе со своим рабом и они разговаривают друг с другом. Раб говорит Дионису: «Вот шуточка отличная!» Дионис отвечает: «Скажи смелей! Не говори лишь одного». — «Чего еще?» — «Что, но́шу перекладывая, треснешь ты». — «А это: издыхаю я под тяжестью. Снимите, а не то в штаны…» — «Прошу тебя, не продолжай! Давно уже тошнит меня».
С нашей точки зрения, это что-то странное. Афинские же зрители, по всей видимости, в этот момент заливались смехом: здесь содержится намек на традиционную для начала комедии сцену, когда появляется раб, который что-то тащит и говорит, как ему плохо, плачет, даже исполняет жалобную песнь. Соответственно, существуют слова, которые обязательно надо в этой сцене употреблять.
Аристофан запрещает рабу это говорить, потому что он — Аристофан, это не простая комедия. Тем не менее раб, как вы понимаете, все равно это произносит. И все страшно довольны. Это означает, что в комедии существовали узнаваемые сцены, в которых зритель заранее знал, что здесь надо смеяться, — почти как если бы поднимали табличку со словом «Смех». В дальнейшем комедия будет развиваться именно по этим сценам — сюжет и все сцены уже начиная с IV века до нашей эры будут стандартными. И все равно все будут смеяться — смеяться узнаванию смешного. И это уже само по себе интересно и показательно.
Дальше комедия идет своим чередом, и всю ее первую часть бог Дионис предстает чрезвычайно трусливым, постоянно врущим безобразным богом. В конце же он судит о том, кто лучший трагический поэт. Замечательно, что вопрос о том, кто лучший поэт трагедии, решает бог в комической ипостаси, бог как комический актер. Оказывается, что комичный бог — это то, каким он и должен быть.
Эта комедия уникальна еще и потому, что в ней два . Название «Лягушки» — это название одного из них. Дионис переправляется в , как и положено, в лодке Харона по страшной реке Стикс, которая в комедии превращается в болото или в озеро, и в нем квакают лягушки. Это замечательное сценическое действо: квакал красивый хор, видимо, выряженный в лягушек. Благодаря этому мы примерно знаем, как, с точки зрения греков, квакали лягушки. Это кваканье изображается как поэтическая песнь, и оно тоже чрезвычайно смешное.
До своего путешествия в подземное царство Дионис встречается с другим хором — хором мистов, людей, посвященных в афинский культ , праздника в честь Деметры и Персефоны — богинь плодородия — и Диониса. Этот хор мистов тоже присутствует на сцене.
Вообще, одна из главных проблем с интерпретацией этой комедии — было там фактически два хора или один? То есть были ли там разные актеры в разных костюмах или одни и те же актеры переодевались за сценой? Это вопрос не только сценографический, но и экономический, потому что два хора тренировать было очень дорого, и в конце Пелопонесской войны на это, по всей видимости, не было денег.
Элевсинские мистерии — это тайный культ Афин, который нельзя было разглашать. Обвинение в разглашении культа Элевсинских мистерий было одним из самых страшных, наряду с изменой родине. Оно предъявлялось многим известным людям. И тем не менее этот неразглашаемый культ присутствует на сцене, причем в самом комическом образе. Например, говорится, что хористы одеты в чрезвычайную рванину, и это всячески обыгрывается. С одной стороны, это просто смешно. С другой стороны — это один из способов решения экономической проблемы: просто у них были плохие, дешевые костюмы. И с третьей стороны — это шутка над тем, что в действительности одежды, в которых посвящались в Элевсинские мистерии, потом надо было носить, не снимая. Говорили, что люди посвящались в самой рванине, чтобы она поскорее пришла в полную негодность — и ее все-таки можно было снять. То есть это шутки над самым святым — что само по себе чрезвычайно показательно. Кроме того, это еще и радость узнавания самого тайного, в том числе и в смешной форме.
Ну и наконец, это комедия литературная. Она говорит о статусе, который литература имела в Афинах: для спасения города нужен поэт. Вся вторая часть комедии — это соревнование между Эсхилом и Еврипидом. В ходе соревно-вания видно, что Еврипид как поэт гораздо лучше. Но он проигрывает. И это замечательно сделано комедийно, чисто технически: на сцену вывозятся огромные весы, на которых взвешиваются стихи. Это одновременно пародия на один из самых важных текстов, на «Илиаду» Гомера, в которой взвеши-вается жребий героев, в частности Ахилла и Гектора. Тот герой, чей жребий перевесил, погибает. В комедии все наоборот: чьи стихи перевесили, то есть чья чаша пошла вниз, тот и побеждает. Вниз идут стихи Эсхила. Почему? Потому что у Еврипида легкие, изящные стихи, а Эсхил пишет про серьезное, и поэтому его стихи тяжелее. То есть получается, что поэт-то он хуже, но пишет про серьезное, а раз нам нужно про серьезное, выигрывает он — а не Еврипид, которого так любит Дионис. Все снова переворачивается с ног на голову.
Главная сцена, которая всех чрезвычайно занимает, для нас, может быть, не до конца понятна, зато является замечательной демонстрацией всего механизма комедии. В ней Еврипид читает свои стихи, а Эсхил все время туда вставляет фразу «Потерял бутылочку».
Ну, например: «Эней однажды, сноп колосьев жертвенных c земли поднявши…» — читает Еврипид. И Эсхил добавляет: «Потерял бутылочку». Фраза становится идиотической. И таких фраз там очень много.
В чем смысл? Самое простое объяснение — что у Еврипида однообразные стихи, в которые всюду можно поставить «Потерял бутылочку». Это, безусловно, правда. Замечательно, что Дионис прерывает процесс, когда Еврипид наконец читает стихи, в которые невозможно вставить «Потерял бутылочку». Дионис говорит Еврипиду: остановись, потому что Эсхил снова скажет: «Потерял бутылочку».
С другой стороны, бутылочка носит очевидный сексуальный, даже похабный характер, потому что это не просто бутылочка, а — такой сосудик с узким горлышком и широким туловищем. Это обсценный символ: «потерял бутылочку» означает «потерял мужскую силу». Это страшно смешно. И одновременно оказывается, что Еврипид лишается самого главного, что есть в комедии, — силы плодородия и потому проигрывает.
Наконец, из того, как дальше обыгрывался этот литературный текст, мы узнаем про третье измерение этой шутки. Эта бутылочка, такая дутая, большая, пухлая, означала возвышенный, раздутый стиль (в хорошем смысле слова). Благодаря этому стилю побеждает Эсхил, потому что сейчас нужна возвышенность и раздутость.
Тем самым оказывается, что даже одно слово в комедии несет сразу несколько смыслов. Смысл сексуальный, исконный для комедии; смысл буквального, нарочитого юмора; смысл литературный; смысл игровой — и одновременно яркий, наглядный, чисто сценический образ, потому что бутылочка, возможно, в этой сцене физически присутствовала, Эсхил ее отбрасывал.
Вот в этом соединении в одном слове различных уровней — от политического до религиозного, комического, поэтического, сексуального — и есть главный смысл смеха античной комедии.
Расшифровка
V век в Греции — золотой век античной культуры, связанный прежде всего с Афинами, — традиционно называют веком драмы, и даже, более конкретно, веком . Греческая трагедия возникает в самом конце VI века до нашей эры и расцветает на протяжении V века, когда трагические становятся центром культурной жизни Афин — да и вообще всей Греции.
Для начала стоит сказать о том, что такое трагедия.
На протяжении многих веков само название «трагедия» — слово, вполне вошедшее в наш лексикон, — интерпретировалось как «козлиная песнь». Можно даже вспомнить произведение Константина Вагинова, которое так называется — именно потому, что за этим стоит слово «трагедия».
Почему трагедия — это «песнь козла», объясняли по-разному, и с этим связано несколько теорий происхождения трагедии.
Всем более-менее ясно, что трагедия должна иметь какие-то ритуальные корни. Она, как и комедия, напрямую связывалась с культовыми, религиозными в честь бога Диониса: Дионис считался покровителем театра и трагических состязаний, и в греческом стоял алтарь Диониса. У греков даже была пословица «Это не имеет отношения к Дионису». Как нам сообщают античные ученые, так говорили про плохую трагедию, ерунду — что-то вроде нашего «ни к селу, ни к городу».
Сейчас очень любят называть разные статьи и книги либо «Все по отношению к Дионису», либо «Кое-что по отношению к Дионису», либо «Ничего по отношению к Дионису». При этом практически ни в одной греческой трагедии из тех, которые до нас дошли — хотя до нас, по всей видимости, в полном виде дошло меньше 15 % всех трагедий, которые ставились в V веке, — не идет речи о Дионисе. Есть только одна трагедия, в которой Дионис присутствует, «Вакханки» Еврипида. Так что можно сказать, что греческая трагедия вообще не про Диониса.
Тем не менее очевидная связь трагедии с культом Диониса указывает на религиозное и ритуальное происхождение трагедии. Из-за названия считалось, что связывал их друг с другом именно козел. Объяснялось это по‑разному. Во‑первых, говорили, что козел — ритуальное животное Диониса. Во-вторых, — что козел был призом на трагических состязаниях (все трагедии представлялись на праздниках, главным образом на , где друг с другом соревновались три трагика). Наконец, третье объяснение заключается в том, что козлиная песнь — это песнь сатиров, спутников Диониса, козлоподобных существ, которые, возможно, изначально составляли греческой трагедии.
Каждый трагик представлял на празднике так называемую тетралогию: три трагедии, изначально связанные единым сюжетом, и одну . До нас более или менее целиком дошла только одна сатирова драма, «Циклоп» Еврипида, где, действительно, хор составляют сатиры. Обычно объясняют, что сатирова драма нужна была, чтобы зрители могли расслабиться после трагедии. Сначала, на протяжении трех драм, все очень плохо: происходят тяжелые события, всех убивают, течет море крови, — а потом наступает легкое, отчасти шуточное расслабление. Сатирова драма — это что-то среднее между трагедией и комедией, и она дает положительный или даже смеховой вариант мифа, в том числе представленного в трагедии.
Почти все эти объяснения не очень убедительны. Козел, конечно, был священным животным Диониса, но не единственным, а одним из большого списка, и отнюдь не самым главным. Козел был призом на трагических состязаниях, но не первым. А, как вы понимаете, когда соревнуются три человека, любой, не занявший первое место, проиграл — так что странно называть все произведение по названию не первого приза. Ну и наконец, похоже, что сатиры стали козлами довольно поздно и не были ими в тот момент, когда возникала трагедия. Поэтому некоторые исследователи полагают, что сами греки не понимали, что значит слово «трагедия». А когда греки не знали, что значит слово, они его тут же как-нибудь объясняли. Поэтому они придумали нам очень подробное объяснение, почему трагедия — это козлиная песня.
Я рассказываю эту историю лишь для того, чтобы обозначить: мы не знаем, откуда взялась греческая трагедия. Были ученые, которые уверенно и твердо заявляли, что они знают, что она родилась из определенного ритуала, чуть ли не в конкретном месте в конкретное время, но все это в известной мере гадание — если не на кофейной гуще, то на небольшом количестве свидетельств, которые до нас дошли. Мы можем говорить только о том, что у трагедии были некоторые ритуальные, культовые истоки.
Когда мы говорим о том, как развивалась трагедия, нам приходится брать на веру те сведения, которые нам дали сами греки — прежде всего Аристотель. Та часть «Поэтики» Аристотеля, которая до нас дошла, целиком посвящена трагедии. Для начала там говорится, что трагедия произошла из и что показал чуть ли не как правильно писать трагедии. Потом Аристотель сообщает, что трагедия произошла из той самой сатировой драмы. И, наконец, он пишет, что трагедия произошла из священных хоров в честь Диониса, из так называемого дифирамба. Дифирамбы исполнялись на тех же праздниках, что и трагедия — и вроде как сначала это были просто песни в честь Диониса, которые пел хор. Потом из хора выделился один запевала — его называли корифеем, — и из диалога корифея и хора появилась трагедия.
То есть Аристотель сообщает нам, что трагедия произошла сразу из всех жанров, которые существовали до нее: эпоса, и какой-то другой драмы. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что греки сами точно не знали, откуда взялась трагедия. Но идея о том, что трагедия охватывает большое количество разнообразных культов в честь Диониса или большое количество литературных жанров, свидетельствует, по крайней мере, об одном — о том, что трагедия в V веке воспринималась как главный и чуть ли не единственный жанр литературы. Жанр, который вбирает в себя всё, что было до него, и не только литературу.
История о происхождении трагедии из дифирамба отражает само строение трагедии, которая состоит из двух начал: из партий хора и действий . Это взаимодействие хора и актеров — главное, что отличает трагедию.
Перемежающиеся партии хора и диалогические партии написаны немножко на разных языках, на разных диалектах литературного . Некоторые исследователи даже полагают, что если диалогические партии написаны на разговорном греческом, который был понятен афинскому зрителю, то хоры могли быть не очень понятны, тем более что они еще и пелись. Таким образом, жанр трагедии — это нечто среднее между театральной драмой, какой мы ее знаем сейчас, и, видимо, оперой.
Отсюда еще одна большая проблема: как ставить и переводить греческую трагедию. То, что могло быть не очень понятно афинским зрителям, уже совсем непонятно зрителям современным. Но при этом хор в трагедии был главным, это ее основная линия, основное содержание и, кстати, основные расходы.
И трагедия, и комедия ставились сначала на государственные, а потом на частные деньги — деньги так называемых , продюсеров, которым это поручало государство и которые боролись за это право. И, конечно, самым дорогим был хор: это пятнадцать человек для каждого трагика, которые специально тренировались, разучивали свои партии. Актеров было не так много. Аристотель рассказывает, что сначала был один актер, потом два, а потом три.
Действующих лиц в греческой трагедии, разумеется, было больше — значит, актеры играли разные роли. Причем актерами были только мужчины, соответственно, они играли и мужские, и женские роли. Благодаря не было видно лиц и можно было играть разных персонажей. И одна из самых занимательных задач, которые мы решаем при анализе греческой трагедии, — это какой актер кого играл. Это делается простым подсчетом количества персонажей в каждой конкретной сцене. Были, правда, еще персонажи без речей, так называемые молчаливые актеры.
Так вот, я говорил о том, что передать взаимодействие хора и актеров, говорящих чуть ли не на разных языках, очень трудно. При этом главные мысли трагедии передаются именно в партиях хоров, независимо от того, является ли хор внешним по отношению к действию или участвует в нем — как, например, происходит в «Агамемноне» Эсхила.
Сложность с переводами хоров заключается еще и в том, что, в отличие от диалогических партий, которые написаны ямбом, партии хора написаны сложными . Переводы античной трагедии всегда стремятся к более или менее точной передаче размера подлинника, но порой оказывается, что, для того чтобы передать это восприятие хора как чего-то особенного и самостоятельного, надо искать какую-то иную форму.
На мой взгляд, самым удачным переводом хора был тот, который ничему не соответствует — ни всей образной символике, ни размеру; он сделан как современный русский стих, в рифму (конечно, греки писали без рифмы). Это перевод одного из хоров еврипидовской «Медеи» Иосифа Бродского.
Когда, раззадорясь, Эрос
острой стрелой, не целясь,
пронзает сердце навылет,
сердце теряет ценность.
Пошли мне — молю Киприду —
любовь, а не эвмениду,
любовь, что легко осилит
предательство и обиду,
горечь и боль разлада.
Такая любовь — услада.
Другой мне любви не надо.
В этом переводе нет почти ничего от хора Еврипида. Но он передает самую важную часть греческого хора и греческой трагедии: это некий завора-живающий текст, скрепленный очень важными внутренними словесными лейтмотивами, которые в русском языке заменяет рифма. Это чрезвычайно напряженный текст. Для нас он одновременно непонятный и, вместе с тем, привлекающий каким-то содержанием, которое кажется нам вневременным и общим.
Хотя в действительности греческая трагедия всегда ставилась в конкретное время и в конкретном месте. Но об этом мы поговорим дальше.
Расшифровка
Ходить в театр было гражданской обязанностью, которая финансировалась государством: людям платили из , чтобы они это делали. Один афинский оратор сказал, что эти театральные деньги — клей для демократии. То есть демократия держится театром, именно там афиняне получают опыт демократии.
Об этом же, хоть и с противоположной позиции, говорил Платон. У него получалось, что чуть ли не вся современная ему афинская демократия, которую он не очень любил, пошла из театра. Он говорил: хорошо бы в театре сидели только знающие люди, но там сидит черт знает кто. Они кричат, высказывают свое мнение, и в итоге в театрах вместо тонкого знания воцарилась «театрократия». И добро бы она оставалась в театре — но она перенеслась на город, и теперь в городе у нас тоже театрократия. Платон, очевидно, намекает на демократию — как в театре кто угодно высказывает свое мнение о трагедии, так и в городе кто угодно (то есть, в действительности, любой афинский гражданин) может высказывать свое мнение относительно порядка дел в государстве.
И вот это соотношение трагедии и города — как мы бы сейчас сказали, трагедии и политики, — быть может, тоже самое важное, что воспринималось зрителем. Любая греческая трагедия, независимо от ее сюжета, — это трагедия об Афинах.
Я приведу только один пример. Это трагедия «Персы», посвященная победе Афин над персами.
В «Персах» утверждается тот образ Афин, который потом, как некий афинский миф, пройдет через весь V век и сохранится до нашего времени — причем утверждается словами персов, врагов; на сцене нет афинских людей. Афины — богатый город, в котором главенствуют идеалы свободы, которым мудро правят, который силен морем (поскольку именно флот всегда ощущался как главная сила Афин, в этой трагедии главная победа греков над персами — это морская победа, победа при Саламине, одержанная в основном благодаря афинскому флоту; хотя в действительности афиняне одержали несколько побед, и победы на суше были не менее важными). Это блистательный образ.
С другой стороны, если внимательно посмотреть на трагедию, выясняется, что павшая Персия рисуется очень схожими чертами: раньше она была чрезвычайно мудро устроенным государством, в котором, как и в Афинах, царили законы. Даже богатство Персии, традиционное для образа Востока, похоже на богатство Афин. Персия отважилась на морской поход, и именно море становится источником силы персов — и в то же время тем местом, где они терпят поражение.
Очень многие исследователи говорят о том, что, хотя в этой трагедии рисуется положительный образ, который воспринимался аудиторией как идеологема «мы победили», этот же образ одновременно становится предупреждением. В Персии раньше тоже все было правильно — правильное устройство, законы, богатства. И она устремилась в море, так же как Афины. И чем дело кончилось? Поражением персидской державы.
По всей видимости, именно в тот момент, когда ставятся «Персы», Афины начинают думать о распространении своего влияния, о превращении в некую империю, которой они станут через некоторое время. И трагедия, показывая мощь и величие Афин, в то же время предупреждает город о том, чем величие может обернуться.
Вот эта двойственность, двусторонность мира, которая в «Антигоне» проявляется как две правды, в «Персах» проявляется как величие, которое может обернуться падением. И какую бы греческую трагедию мы ни стали читать, ее главная мысль — именно о неоднозначности происходящего вокруг, о сложности мироустройства. В том числе и о политической сложности, о том, что сиюминутное состояние человека и города (а трагедия, напомню, ставилась один раз, в конкретном месте, в конкретное время) всегда нужно соотносить с тем, что было, и с тем, что будет.
Иными словами, трагедия как литература неразрывно связана с трагедией как отражением истории, с трагедией как политическим событием. Двусторон-ность мира одинакова и в политике, и во внутреннем мире человека. И именно об этом греческая трагедия.
Расшифровка
Напоследок стоит поговорить о какой-нибудь одной греческой . Выбрать, с одной стороны, очень сложно, а с другой — очень просто, потому что с легкой руки двух человек, разделенных большим временным промежутком, мы знаем, какая греческая трагедия — главная.
В «Поэтике» Аристотеля недвусмысленно звучит мысль о том, что лучший греческий трагик из трех великих трагиков — это Софокл, а лучшая греческая трагедия из всех греческих трагедий — это «Царь Эдип».
И в этом одна из проблем с восприятием греческой трагедии. Парадокс заключается в том, что мнение Аристотеля, по всей видимости, не разделяли афиняне V века до нашей эры, когда «Царь Эдип» был поставлен. Мы знаем, что Софокл с этой трагедией на проиграл, афинские зрители не оценили «Царя Эдипа» так, как его оценил Аристотель.
Тем не менее Аристотель, который говорит, что греческая трагедия — это трагедия двух эмоций, страха и сострадания, пишет о «Царе Эдипе», что всякий, кто прочтет оттуда хотя бы строчку, одновременно будет и страшиться того, что произошло с героем, и сострадать ему.
Аристотель оказался прав: вопросу о смысле этой трагедии, о том, как мы должны воспринимать главного героя, виноват Эдип или не виноват, уделили внимание практически все великие мыслители. Лет двадцать тому назад была опубликована статья D. A. Hester. Oedipus and Jonah // Proceedings of the Cambridge Philological Society. Vol. 23. 1977. одного американского исследователя, в которой он скрупулезно собрал мнения всех, начиная с Гегеля и Шеллинга, кто говорил, что Эдип виноват, кто говорил, что Эдип не виноват, кто говорил, что Эдип, конечно, виноват, но невольно. В итоге у него получилось четыре основные и три вспомогательные группы позиций. А не так давно нашим соотече-ственником, но по-немецки была опубликована огромная книжка, которая называлась «Поиск вины» M. Lurje. Die Suche nach der Schuld. Sophokles’ Oedipus Rex, Aristoteles’ Poetik und das Tragödienverständnis der Neuzeit. Leipzig, 2004. , посвященная тому, как интерпретировали «Царя Эдипа» за века, прошедшие с первой его постановки.
Вторым человеком, конечно, стал Зигмунд Фрейд, который, по понятным причинам, тоже посвятил «Царю Эдипу» немало страниц (хотя и не так много, как, казалось бы, должен был) и назвал эту трагедию образцовым примером психоанализа — с той лишь разницей, что психоаналитик и пациент в ней совпадают: Эдип выступает и в роли врача, и в роли больного, поскольку анализирует сам себя. Фрейд писал о том, что в этой трагедии начало всего — религии, искусства, морали, литературы, истории, что это трагедия на все времена.
Тем не менее эта трагедия, как и все другие древнегреческие трагедии, ставилась в конкретное время и в конкретном месте. Вечные проблемы — искусства, морали, литературы, истории, религии и всего прочего — соотносились в ней с конкретным временем и конкретными событиями.
«Царь Эдип» был поставлен между 429 и 425 годами до нашей эры. Это очень важное время в жизни Афин — начало Пелопоннесской войны, которая в итоге приведет к падению величия Афин и их поражению.
Трагедия открывается , который приходит к Эдипу, властвующему в Фивах, и говорит, что в Фивах мор и причиной этого мора, согласно пророчеству Аполлона, является тот, кто убил прежнего царя Фив Лая. В трагедии дело происходит в Фивах, но всякая трагедия — про Афины, поскольку она ставится в Афинах и для Афин. В тот момент в Афинах только что прошла страшная чума, выкосившая много , в том числе совершенно выдающихся, — и это, конечно, аллюзия на нее. В том числе во время этой чумы погиб Перикл, политический лидер, с которым связано величие и процветание Афин.
Одна из проблем, занимающих интерпретаторов трагедии, — это ассоции-руется ли Эдип с Периклом, если ассоциируется, то как, и каково отношение Софокла к Эдипу, а значит, и к Периклу. Вроде бы Эдип — ужасный преступник, но одновременно он спаситель города и до начала, и в конце трагедии. На эту тему тоже написаны тома.
По-гречески трагедия буквально называется «Эдип тиран». Греческое слово (), от которого произошло русское слово «тиран», обманчиво: его нельзя переводить как «тиран» (его так и не переводят, как можно увидеть из всех русских — и не только русских — версий трагедии), потому что изначально это слово не имело отрицательных коннотаций, которые есть у него в современном русском языке. Но, по всей видимости, в Афинах V века оно этими коннотациями обладало — потому что Афины в V веке гордились своим , тем, что здесь нет власти одного, что все граждане равным образом решают, кто лучший трагик и что лучше для государства. В афинском мифе изгнание тиранов из Афин, произошедшее в конце VI века до нашей эры, — одна из важнейших идеологем. И поэтому название «Эдип тиран» — скорее отрицательное.
Действительно, Эдип в трагедии ведет себя как тиран: упрекает своего шурина Креонта в заговоре, которого нет, и называет подкупленным прорицателя Тиресия, который говорит о страшной судьбе, ждущей Эдипа.
Кстати, когда Эдип и его супруга и, как потом окажется, мать Иокаста рассуждают о мнимости пророчеств и их политической ангажированности, это тоже связано с реалиями Афин V века, где были элементом политической технологии. У каждого политического лидера были чуть ли не свои прорицатели, которые специально, под его задачи, истолковывали или даже сочиняли пророчества. Так что даже такие вроде бы вневременные проблемы, как отношения людей с богами через пророчества, имеют вполне конкретный политический смысл.
Так или иначе, все это свидетельствует о том, что тиран — это плохо. С другой стороны, из других источников, например из истории Фукидида, мы знаем, что в середине V века союзники называли Афины «тиранией» — понимая под этим мощное государство, которое управляется отчасти демократическими процессами и объединяет вокруг себя союзников. То есть за понятием «тирания» стоит представление о мощи и организованности.
Получается, что Эдип — символ той опасности, которую несет мощная власть и которая кроется в любой политической системе. Таким образом, это трагедия политическая.
С другой стороны, «Царь Эдип» — это, конечно, трагедия важнейших тем. И главная среди них — тема знания и незнания.
Эдип — мудрец, который в свое время спас Фивы от страшной (потому что сфинкс — это женщина), разгадав ее загадку. Именно как к мудрецу к нему приходит хор фиванских граждан, старейшин и юношества, с просьбой спасти город. И как мудрец Эдип заявляет о необходимости разгадать загадку убийства прежнего царя и разгадывает ее на протяжении всей трагедии.
Но одновременно он и слепец, не знающий самого важного: кто он такой, кто его отец и мать. В стремлении узнать истину он игнорирует все, о чем его предупреждают окружающие. Таким образом получается, что он мудрец, который не мудр.
Оппозиция знания и незнания — это одновременно и оппозиция видения и слепоты. Слепой пророк Тиресий, который в начале разговаривает с видящим Эдипом, все время говорит ему: «Ты слеп». Эдип в этот момент видит, но не знает — в отличие от Тиресия, который знает, но не видит.
Замечательно, кстати, что по-гречески видение и знание — это одно и то же слово. По-гречески знать и видеть — οἶδα (). Это тот же корень, который, с точки зрения греков, заключен в имени Эдипа, и это многократно обыгрывается.
В конце, узнав, что это он убил своего отца и женился на своей матери, Эдип ослепляет себя — и тем самым, став, наконец, подлинным мудрецом, теряет зрение. Перед этим он говорит, что слепец, то есть Тиресий, был слишком зряч.
Трагедия построена на чрезвычайно тонкой игре (в том числе словесной, окружающей имя самого Эдипа) этих двух тем — знания и зрения. Внутри трагедии они образуют своеобразный контрапункт, все время меняясь местами. Благодаря этому «Царь Эдип», будучи трагедией знания, становится трагедией на все времена.
Смысл трагедии тоже оказывается двойственным. С одной стороны, Эдип — самый несчастный человек, и об этом поет хор. Он оказался ввергнутым из полного счастья в несчастье. Он будет изгнан из собственного города. Он потерял собственную жену и мать, которая покончила с собой. Его дети — плод инцеста. Все ужасно.
С другой стороны, парадоксальным образом Эдип в финале трагедии торжествует. Он хотел узнать, кто его отец и кто его мать, и узнал это. Он хотел узнать, кто убил Лая, — и узнал. Он хотел спасти город от чумы, от мора — и спас. Город спасен, Эдип обрел самое важное для него — знание, пусть ценой невероятных страданий, ценой потери собственного зрения.
Кстати, Софокл внес в известный сюжет изменения: Эдип раньше не ослеплял себя, а внутри софокловой драмы ослепление — естественный финал, выражение и поражения, и победы.
В этой двойственности — литературный и политический смысл трагедии, поскольку она демонстрирует двусторонность власти, связанность власти и знания. В этом залог цельности, поразительной выстроенности этой трагедии на всех уровнях, от сюжетного до словесного. В этом же залог ее величия, сохранившегося на протяжении веков.
Почему же афинская публика не оценила «Царя Эдипа»? Быть может, именно интеллектуализм трагедии, очень сложная запакованность в нее различных тем оказались слишком сложными для афинской публики V века. И именно за этот интеллектуализм наверняка и ценил прежде всего «Царя Эдипа» Аристотель.
Так или иначе, «Царь Эдип» воплотил основной смысл и основной посыл греческой трагедии. Это, прежде всего, интеллектуальный опыт, который соотнесен с опытом самого разного свойства, от религиозного и литературного до политического. И чем теснее эти разные смыслы взаимодействуют друг с другом, тем удачнее и важнее ее смысл и тем сильнее ее эффект.
На празднике «великих Дионисий», учрежденном афинским тираном Писистратом, выступали, помимо лирических хоров с обязательным в культе Диониса дифирамбом, также и трагические хоры. Античная традиция называет первым трагическим поэтом Афин Феспида и указывает на 534 г. до н. э. как на дату первой постановки трагедии во время «великих Дионисий».
Эта ранняя аттическая трагедия конца VI и начала V вв. еще не была драмой в полном смысле слова. Она являлась одним из ответвлений хоровой лирики, но отличалась двумя существенными особенностями: 1) кроме хора, выступал актер, который делал сообщения хору, обменивался репликами с хором или с его предводителем (корифеем); в то время как хор не покидал места действия, актер уходил, возвращался, делал новые сообщения хору о происходящем за сценой и при надобности мог менять обличие, исполняя в свои различные приходы роли разных лиц; в отличие от вокальных партий хора актер этот, введенный, согласно античной традиции, Феспидом, не пел, а декламировал хореические или ямбические стихи; 2) хор принимал участие в игре, изображая группу лиц, поставленных в сюжетную связь с теми, кого представлял актер. Количественно партии актера были еще очень незначительны, и он, тем не менее, был носителем динамики игры, так как в зависимости от его сообщений менялись лирические настроения хора. Сюжеты брались из мифа, но в отдельных случаях трагедии сочинялись и на современные темы; так, после взятия Милета персами в 494 г. поэт Ф р и н и х поставил трагедию «Взятие Милета»; победа над персами при Саламине послужила темой для «Финикиянок» того же Фриниха (476 г.), содержавших прославление афинского вождя Фемистокла. Произведения первых трагиков не сохранились, и характер разработки сюжетов в ранней трагедии неизвестен; однако уже у Фриниха, а может быть еще и до него, основным содержанием трагедии служило изображение какого-либо- «страдания». Начиная с последних лет VI в., за постановкой трагедии следовала «драма сатиров» - комическая пьеса на мифологический сюжет, в которой хор состоял из сатиров. Первым творцом сатировских драм для афинского театра традиция называет П р а т и н а из Флиунта (в северном Пелопоннесе).
Интерес к проблемам «страдания» и его связи с путями человеческого поведения был порожден религиозными и этическими брожениями VI в., отражавшими становление античного рабовладельческого общества и государства, новые связи между людьми, новую фазу в отношениях общества и индивида. Демократическая религия Диониса играла немаловажную роль в той борьбе, которую складывающийся рабовладельческий* класс города вел, опираясь на крестьянство, против аристократии и ее идеологии; тираны (например Писистрат в Афинах или Клисфен в Си- кионе) выдвигали религию Диониса в противовес местным аристократическим культам. В орбиту новых проблем не могли не попасть и мифы о героях, принадлежавшие к основным устоям полисной жизни и составлявшие одну из важнейших частей в культурном богатстве греческого* народа. При этом переосмыслении греческих мифов на первый план стали выдвигаться уже не эпические «подвиги» и не аристократическая «доблесть», а страдания, «страсти»; этим путем можно было сделать миф выразителем нового мироощущения и извлечь из него материал для актуальных в революционную эпоху VI в. проблем «справедливости», «греха» и «воздаяния». Возникшая в ответ на эти запросы трагедия восприняла наиболее близкий к привычным формам хоровой лирики тип: изображения «страстей», часто встречающийся и в первобытных обрядах: «страсти» не происходят на глазах у зрителя, о них сообщается через, посредство «вестника», а справляющий обрядовое действие коллектив- реагирует песней и пляской на эти сообщения. Благодаря введению актера, «вестника», делающего сообщения хору и отвечающего на его вопросы, в хоровую лирику вошел динамический элемент, переходы настроения от радости к печали и обратно - от плача к ликованию.
Очень важные сведения о литературном генезисе аттической трагедии сообщает Аристотель. В 4-й главе его «Поэтики» рассказывается, что- трагедия «подверглась многим изменениям», прежде чем приняла свою= окончательную форму. На более ранней ступени она имела «сатировский» характер, отличалась несложностью сюжета, шутливым стилем и обилием плясового элемента; серьезным произведением она стала лишь впоследствии. О «сатировском» характере трагедии Аристотель говорит в несколько неопределенных выражениях, но мысль, по-видимому, та, что трагедия некогда имела форму драмы сатиров. Истоками трагедии Аристотель считает импровизации «зачинателей дифирамба».
Сообщения Аристотеля ценны уже потому, что принадлежат очень- осведомленному автору, в распоряжении которого был огромный, не дошедший до нас материал. Но они подтверждаются также и показаниями других источников. Есть сведения, что в дифирамбах Ариона (стр. 91)* выступали ряженые хоры, по имени которых отдельные дифирамбы получали то или иное название, что в этих дифирамбах, кроме музыкальных частей, имелись и декламационные партии сатиров. Формальные особенности ранней трагедии не представляли, таким образом, абсолютного- нововведения и подготовлены были развитием дифирамба, т. е. того- жанра хоровой лирики, который непосредственно связан с религией Дио«иса. Более поздним примером диалога в дифирамбе может служить «Фе- сей» Вакхилида (стр. 95).
Другим подтверждением указаний Аристотеля является и самое название жанра: «т р а г ед и я» (tragoidia). В буквальном переводе оно означает «козлиную песнь» (tragos - «козел», ode - «песнь»). Смысл этого термина был неизвестен уже античным ученым, и они создавали различные фантастические толкования, вроде того, что козел будто бы служил наградой для победившего в состязаний хора. В свете сообщений Аристотеля о былом «сатировском» характере трагедии происхождение термина может быть легко объяснено. Дело в том, что в некоторых областях Греции, главным образом в Пелопоннесе, демоны плодородия, в том числе и сатиры, представлялись козлообразными. Иначе в аттическом фольклоре, где пелопоннесским козлам соответствовали конеобразные фигуры (силены); однако и в Афинах театральная маска сатира содержала, наряду с лошадиными чертами (грива, хвост), также и козлиные (бородка, козья шкура), и у аттических драматургов сатиры нередко именуются «козлами». Козлообразиые фигуры воплощали сладострастие, их песни и пляски следует представлять себе грубыми и непристойными. На это намекает и Аристотель, когда говорит о шутливом стиле и плясовом характере трагедии на ее «сатировской» стадии.
«Трагические» хоры были связаны и вне культа Диониса с мифологическими фигурами «страстного» типа. Так, в городе Сикионе (северный Пелопоннес) «трагические хоры» прославляли «страсти» местного героя Адраста; в начале VI в. сикионский тиран Клисфен уничтожил культ Адраста и, как говорит историк Геродот, «отдал хоры Дионису». В «трагических хорах» должен был поэтому занимать значительное место элемент заплачки, который был широко использован в позднейшей трагедии. Заплачка, с характерным для нее чередованием причитаний отдельных лиц и хорового плача коллектива (стр. 31), явилась, вероятно, и формальным образцом для частых в трагедии сцен совместного плача актера и хора.
Однако если аттическая трагедия и развилась на основе фольклорной игры пелопоннесских «козлов» и дифирамба арионовского типа, все же решающим моментом для возникновения ее было перерастание «страстей» в нравственную проблему. Сохраняя в формальном отношении многочисленные следы своего происхождения, трагедия по содержанию и идейному характеру была новым жанром, ставившим вопросы человеческого поведения на примере судьбы мифологических героев. По выражению Аристотеля, трагедия «стала серьезной». Такой же трансформации подвергся и дифирамб, потерявший характер бурной дионисовской песни и превратившийся в балладу на героические сюжеты; примером могут служить дифирамбы Вакхилида. И в том и в другом случае детали процесса и его отдельные этапы остаются неясными. По-видимому, песни «козлиных хоров» впервые стали получать литературную обработку в начале VI в. в северном Пелопоннесе (Коринф, Сикион); на рубеже VI и V вв., когда в Афинах установился демократический строй, породивший всю дальнейшую проблематику трагедии, она была уже произведением на тему о страданиях героев греческого мифа, и хор рядился не в маску «козлов» или сатиров, а в маску лиц, сюжетно связанных с этими героями. Трансформация трагедии происходила не без противодействия
сторонников традиционной игры; раздавались жалобы, что на празднестве Диониса исполняются произведения, «не имеющие никакого отношения к Дионису»; новая форма, однако, возобладала. Хор старинного типа и соответственный шутливый характер игры были сохранены (или, быть может, восстановлены через некоторое время) в особой пьесе, которая ставилась вслед за трагедиями и получила название «сатировской драм ы». Эта веселая пьеса с неизменно благополучным исходом соответствовала последнему акту обрядового действа, ликованию о воскресшем боге.
Рост социального значения отдельной личности в жизни полиса и повысившийся интерес к ее художественному изображению приводят к тому, что в дальнейшем развитии трагедии роль хора уменьшается, вырастает значение актера и увеличивается число актеров; но остается неизменной самая двусоставность, наличие хоровых партий и партий актера. Она отражается даже на диалектальной окраске языка трагедии: в то время как трагический хор в известной мере тяготеет к дорийскому диалекту хоровой лирики, актер произносил свои партии по-аттически, с некоторой примесью ионийского диалекта, являвшегося до этого времени языком всей декламационной греческой поэзии (эпос, ямб). Двусоставностью аттической трагедии определяется и ее внешняя структура. Если трагедия, как это было обычно впоследствии, начиналась с партий актеров, то эта первая часть, до прихода хора, составляла пролог. Затем следовал п а - род, прибытие хора; хор вступал с двух сторон в маршевом ритме и исполнял песню. В дальнейшем происходило чередование эписодиев (привхождений, т. е. новых приходов актеров), актерских сцен и с т а с и - мов (стоячих песен), хоровых партий, исполнявшихся обычно, когда актеры удалялись. За последним стасимом шел экс од (выход), заключительная часть, в конце которой и актеры и хор покидали место игры. В эписодиях и эксоде возможен диалог актера с корифеем (предводителем) хора, а также к о м м 6 с («удары» - обычно в грудь - как выражение скорби), совместная лирическая партия актера и хора. Эта последняя форма особенно свойственна традиционному плачу трагедии. Партии хора по своей структуре строфичны (стр. 95). Строфе соответствует антистрофа; за ними могут следовать новые строфы и антистрофы иной структуры (схема: аа у bb , сс) эподы встречаются сравнительно редко.
Антрактов в современном смысле слова в аттической трагедии не было. Игра шла непрерывно, и хор почти никогда не покидал места игры во время действия. В этих условиях перемена места действия в середине пьесы или растягивание его на долгий срок создавали резкое нарушение сценической иллюзии. Ранняя трагедия (включая Эсхила) не отличалась в этом отношении большой требовательностью и обращалась довольно свободно как с временем, так и с местом, используя разные части площадки, на которой происходила игра, как разные места действия; впоследствии стало обычным, хотя и не безусловно обязательным, что действие трагедии происходит на одном месте и не превышает своей длительностью одного дня. Эти особенности построения развитой греческой трагедии получили в XVI в. наименование «единства места» и «единства времени». Поэтика французского классицизма придавала, как известно, очень большое значение «единствам» и возводила их в основной драматургический принцип.
Более или менее постоянными составными частями аттической трагедии являются «страдание», сообщение вестника, плач хора. Катастро- фальный конец для нее нисколько не обязателен; многие трагедии имели примирительный исход. Культовый характер игры, вообще говоря, требовал благополучного, радостного конца, но, поскольку этот конец был обеспечен для игры в целом заключительной драмой сатиров,. поэт мог избрать тот финал, который находил нужным.
От Эсхила и Софокла до нас дошло по семь полностью сохранившихся произведений, от Еврипида - девятнадцать. В первую очередь будут обсуждаться не они, но лишь те аттические трагедии, которые сохранились во фрагментах. Полностью сохранившиеся трагедии известны гораздо шире, чем фрагменты, так что мне показалось более важным сообщить некоторые сведения о последних.
ЭСХИЛ
Из драм Эсхила, известных нам только по случайным цитатам, можно упомянуть трагедию «Лай», так как здесь, судя по содержанию, говорилось о любви к юношам. Она составляла начальную часть тетралогии, с которой поэт завоевал первую награду в 78-ю Олимпиаду (467 г. до н.э.), при архонте Феагениде; вторая, третья и четвертая части были представлены трагедиями «Эдип», «Семеро против Фив» и сатировской драмой «Сфинкс».
К несчастью, от «Лая» сохранились лишь две незначительные глоссы; однако мы в состоянии кое-что сказать о его сюжете. Существует немало доводов в пользу того, что любовь Лая к юноше Хрисиппу, прекрасному сыну Пелопа, образовывала подоплеку дальнейшей трагической судьбы злосчастного царя. Согласно многим греческим преданиям, Лай считался
изобретателем любви к юношам. К этому можно добавить также сообщение о том, что Пелоп - лишившийся сына отец - произнес страшное проклятие похитителю, довлевшее, скрыто передаваясь по наследству, сыну и внукам Лая, пока сила проклятия не была подорвана смертью Эдипа, который после полной скорбей жизни по воле неба был очищен от греха. Здесь следует избежать грубой ошибки, которую совершают другие, в остальном хорошо знающие античность люди; проклятие отца вызвано не тем, что Лай полюбил юношу и сошелся с ним, а следовательно, не «противоестественной природой» его страсти, как можно было бы предположить, принимая во внимание современные взгляды на педерастию, но только и исключительно потому, что Лай похищает и умыкает юношу вопреки воле отца: виновным Лая делает не извращенная направленность его страсти, а примененное им насилие. Похищение, несомненно, является в целом самым обычным началом всех половых связей первобытной эпохи, и мы знаем, что умыкание женщин и мальчиков как религиозная церемония может иметь место и в высшей степени цивилизованные времена; но схожим образом мы обнаруживаем повсюду, что похищение должно оставаться мнимым, и что использование настоящего насилия осуждается как общественным мнением, так и законами. То, что такой взгляд на вину Лая является правильным, мы увидим из сравнения данного сюжета с формой умыкания, обычной на Крите, о которой речь пойдет далее.
Таким образом, мы вправе говорить о том, что отдельной темой данной трагедии Эсхила было проклятие, которому обрекался нарушивший общепринятую норму Лай: герой думал, будто вынужден похитить мальчика, тогда как он мог просить об этом прекрасном даре свободно и открыто. Проклятие, призванное на его голову, содержит в себе ужасную иронию: после женитьбы царю будет отказано в том, что было для него главной радостью молодости, - в возлюбленном юноше. Его супружество остается бездетным, и когда вопреки року он все-таки порождает сына, катастрофическое сцепление звеньев судьбы обрекает его на гибель от руки наследника, которого он так страстно жаждал. Направляемая слепой яростью судьбы рука отцеубийцы мстит за греховное попрание свободной воли мальчика, которое прежде совершил сам Лай. Но смерть от руки сына - следствие появления страшной Сфинги; чтобы освободить свою страну от этой пагубы, Лай отправляется в Дельфы просить совета или помощи светоносного бога; на обратном пути он встречает остающегося неузнанным сына, который и проливает кровь отца. Неожиданно новым светом озаряется и глубинное значение загадки Сфинги, на которую так ответил Эдип: «Человек на заре жизни свеж и исполнен радостных надежд, а на закате - это слабое и сломленное существо». Одним из таких достойных жалости существ и был Лай, а сын, поразивший отца, оказался единственным человеком, кому хватило ума для того, чтобы разрешить загадку. Если кого-то не трогает такой трагизм, если - в согласии с современным воззрением - кто-то видит вину Лая в любви к сыну Пелопа, - что ж, поэт писал не для него.
В другом месте я говорил о широко распространенной точке зрения, по которой в поэмах Гомера нет и следа педерастии, и только в позднейшую эпоху вырождения греки находили ее следы у Гомера. В своей драме «Мирмидоняне» Эсхил показывает, что узы привязанности между Ахиллом и Патроклом трактовались как сексуальная связь, и впервые это произошло не в эпоху упадка, но в пору прекраснейшего весеннего цветения эллинской культуры. Драма содержала эпизод, в котором Ахилл, тяжко оскорбленный Агамемноном, в гневе воздерживается от участия в бое и утешается в своем шатре с Патроклом. Трагический хор бьш представлен ахилловыми мирмидонянами, которые в конце концов уговаривают героя позволить им участвовать в сражении под началом Патрокла. Драма заканчивалась гибелью последнего и безнадежной скорбью Ахилла.
СОФОКЛ
Во фрагментах, сохранившихся от драматических произведений Софокла, часто говорится о любви к мальчикам и юношам.
Это не удивит тех, кто знаком с жизнью поэта. Великий трагик, о мужской красоте которого и поныне лучше остальных памятников красноречиво свидетельствует знаменитая статуя в Латеране, еще мальчиком был наделен необыкновенной прелестью и миловидностью. Он настолько преуспел в танце, музыке и гимнических искусствах, что на его черные волосы часто возлагался победный венок. Когда греки готовились к празднику в честь славного саламинского сражения, юный Софокл показался столь совершенным воплощением юношеской красоты, что его поставили во главе хоровода юношей - обнаженным и с лирой в руках (см. γένος Σοφοκλέους и Ath., i, 20).
Ослепительный герой «Илиады» Ахилл в пьесе «Поклонники Ахилла», бывшей, скорее всего, сатировской драмой, предстает перед нами в облике прекрасного мальчика. Весьма вероятно, что действие драмы, от которой сохранилось несколько скудных фрагментов, разворачивалось на вершине Пелиона или в пещере Хирона, знаменитого кентавра и воспитателя героев. О красоте юноши можно судить по строке: «Он глаз своих бросает стрелы» [Софокл, фрагм. 151; перевод Φ. Φ. Зелинского]. Более длинный фрагмент из девяти строк (Софокл, 153) сравнивает любовь со снежком, который- тает в руках играющего мальчика. Можно предположить, что тем самым Хирон намекает на свое смутное влечение к мальчику. В конце концов Фетида забирает сына у его наставника (Софокл, фрагм. 157, где выражение τα παιδικά употреблено в эротическом смысле), и сатиры пытаются утешить Хирона, переживающего утрату возлюбленного. Вероятно, составлявшие хор сатиры также выступали в роли поклонников мальчика; высказывалось предположение, что в конце им приходилось удалиться «обманутыми и укрощенными».
Известный по «Илиаде» (xxiv, 257) нежный сын Приама Троил, юношеской красотой которого восторгался уже трагик Фриних, в
одноименной драме Софокла выступал в качестве любимца Ахилла. Все, что мы знаем о сюжете пьесы, сводится к тому, что Ахилл по ошибке убивает своего любимца во время каких-то гимнастических упражнений. Иными словами, Ахилла постигает такое же несчастье, что и Аполлона, который в результате несчастного случая при метании диска убил горячо любимого им Гиакинта. Ахилл оплакивал смерть Троила; от его плача дошел единственный стих, в котором Троил именуется άνδρόπαις, или мальчиком, который разумом не уступает мужу (Софокл, фрагм. 562).
Не остается никаких сомнений в том, что обсценные выражения встречались даже в драмах Софокла (например, фрагм. 388 άναστΰφαι; фрагм. 390 άποσκόλυπτε; фрагм. 974: ούράν).
ЕВРИПИД
История Хрисиппа, юного любимца Лая, послужила сюжетом также для драмы Еврипида. Названная по имени главного героя, драма «Хри-сипп» имела своим поводом личное переживание самого поэта. К числу прекраснейших юношей, притягивавших в ту эпоху чужестранцев на улицы Афин, принадлежал Агафон, сын Тисамена. Этому Агафону Аристофан дает широко известную остроумную характеристику в «Женщинах на празднике Фесмофорий»; он играет важную роль в «Пире» Платона; как трагического поэта его высоко ценил Аристотель. Современникам он представлялся богом, сошедшим с небес и шествующим в человеческом облике по земле. Но многие стремились добиться любви этого эфеба; его красота привела к сцене ревности между Сократом и Алкивиадом, которая так прелестно описана Платоном. Сообщают, что даже насмешник Еврипид был околдован необыкновенными чарами этого поразительного красавца, что именно ради него он написал и поставил своего «Хрисиппа». Если это утверждение верно, - а у нас нет причин подвергать его сомнению, - можно высказать догадку, что герой пьесы Хрисипп был создан по образу прекрасного Агафона и что в образе Лая поэт вывел себя самого. У Цицерона (Tusc. disp., iv, 33, 71) мы находим, замечание, из которого явствует, что в основании драмы лежала вожделеющая чувственность, и что желания Лая, ищущего благосклонности юноши, обнаруживались здесь совершенно отчетливо и неприкрыто. Необходимо уяснить, что речь идет о драме, исполнявшейся публично; на ней, конечно, присутствовали и Еврипид, и прекрасный Агафон. В конце пятого века, в Афинах, знаменитый поэт стремился таким образом завоевать благосклонность выдающегося юноши, равно славившегося красотой и рафинированной образованностью.
Немногочисленные фрагменты не дают, разумеется, подробных сведений о содержании трагедии. Еврипид придерживается широко распространенного мнения, согласно которому Лай был первым, кто ввел в Греции любовь к юношам. Лай также, по-видимому, сопротивлялся своей страсти, особенно если принять во внимание убежденность греков
в том, что любовь - это род недуга, она расстраивает безмятежность духа, а потому с ней следует бороться оружием разума Подобно Медее, противящейся своей любви к Ясону (Овидии, «Метаморфозы», 720), Лай (Еврипид, фрагм 841) жалуется на то, что люди знают правое, но поступают наоборот. Возможно, драма заканчивалась гибелью Хрисиппа, так как Еврипид писал трагедию, ввиду противоречивости традиции большего сказать мы не в состоянии.
II. АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
Греческая комедия порождена плещущим через край благочестивым восторгом, выражением благодарности Дионису, величайшему сокрушителю забот и подателю радости, вечно юному богу плодородия щедрой, неизменно обновляющей самое себя природы Поэтому комедия изобилует непристойностями, которые неразрывно связаны с почитанием духов плодородия. Поскольку комедия является гротескно искаженным отражением жизни, постольку в греческой комедии половая жизнь повсюду выступает на передний план, представая перед нами бурлящим котлом ведьм, чудовищной оргией, в которой, ошеломляя зрителя, словно вокруг исполинской оси гротескного фаллоса, вращаются бесконечно запутанные половые вожделения и всевозможные разновидности любовных утех. Любовь к мальчикам имеет в комедии практически такое же значение, как и любовь к женщинам. Само собой разумеется, что греческая комедия, как и все другие виды поэзии, просто немыслима без любви к мальчикам; эта любовь ни в коей мере не является изнанкой гротескного юмора дионисийского распутства, но служит одним из фокусов, на котором сосредоточена греческая, особенно аттическая, комедия. Но, как уже сказано, нам придется иметь дело с искаженным отражением. Потому-то здесь и не слышны нежные речи скромного юноши Эрота, превратившегося в грубого Приапа. Харита, конечно, спрячет, устыдившись, свое лицо, но наука не может обойти эти факты молчанием.
ФЕРЕКРАТ
Из неизвестной комедии Ферекрата (фрагм. 135) до нас дошло оскорбительное изречение. Упрекая Алкивиада в излишней уступчивости мужчинам, персонаж Ферекрата поносит его также как угрозу женщинам: «Алкивиад, который, кажется, вовсе не был мужем, стал ныне мужем всех жен» 36 .
36 Ср Светоний, «Цезарь», 32 Cuno pater eum (sc Caesarem) omnium muherum virum et omnium virorum muherem apellat, Цицерон, «Против Верреса», и, 78, 192 at homo magis vir inter muheres, impura inter viros muheroula profem non potest
ЕВПОЛИД
Евполид Афинский является для нас более щедрым источником. Его расцвет приходится на годы Пелопоннесской войны, а около 411 г. до н.э. он погиб, сражаясь за родину при Геллеспонте. Это был один из самых тонких умов среди авторов Древней Комедии, и еще многие годы после его смерти веселая муза Евполида пользовалась всеобщей любовью благодаря своему остроумию и прелести. Не менее семи его комедий из четырнадцати или семнадцати (по различному счету) удостоились первого приза. В четвертый год 89-й Олимпиады (421 г. до н.э.) Евполид поставил комедию «Автол и к», пересмотренный вариант которой был спустя десять лет исполнен вторично. Автолик был сыном Ликона и Родии, юношей такой красоты, что восхищенный Ксенофонт (Symposion, i, 9) писал о нем так: «...как светящийся предмет, показавшийся ночью, притягивает к себе взоры всех, так и тут красота Автолика влекла к нему очи всех» [перевод С. А. Соболевского]. Этот Автолик был любимцем Каллия, славившегося своим богатством и легкомысленным образом жизни, который в ознаменование победы прекрасного юноши в панкратии на Панафинейских играх 422 г. до н.э. задал в его честь пир, описанный Ксенофонтом в знаменитом «Симпосии». Жизнь Автолика оборвалась трагически: после взятия города Лисандром он был казнен по приказу Тридцати тиранов.
О содержании пьесы с определенностью может быть сказано лишь следующее: любовь Каллия и Автолика выставлялась здесь в чрезвычайно неблагоприятном свете, и даже родители юноши, принимавшие участие в пире, были осыпаны насмешками и грязью; осмеянию подвергся и сам пир (Ath., ν, 216е; Eupolis, frag. 56: εύτρήσιος παρά το τετρήσθαι τον Αυτόλυκον ό Ευπολις σκώπτει; фрагм. 61: άναφλασμός (онанизм)).
Β 415 г. до н.э. Евполид представил на городских Дионисиях задорную комедию Baptae («Окропители»), где жестоко высмеивалась частная жизнь Алкивиада. В этих окропителях следует, вероятно, видеть товарищей Алкивиада, устраивавших ночные оргии во славу богини распутства Котитто и подражавших на них танцам женщин; известную роль здесь играли сладострастные омовения и очищения. Из одного отрывка Лукиана (Adv. Ind., 27: «И ты не покраснел, читая эту пьесу») явствует, что комедия изобиловала непристойностями.
«Льстецы» (поставлены в 423 г. до н.э.) были, очевидно, полностью посвящены любви к юношам. Здесь изображен Демос, выставивший себя на продажу, и во фрагменте 265 мы слышим· его жалобу: «Клянусь Посидоном, дверь моя не знает покоя», - так много посетителей, рвущихся на него посмотреть. Демос, сын Пирилампа, богатого афинянина, друга Перикла, выступает в роли знаменитого фаворита и у Аристофана («Осы», 97; ср. игру слов в платоновском «Горгии», 481d). В пьесе имеется также беседа Алкивиада с Б. - лицом нам неизвестным, - где Алкивиад высмеивается за некоторые предосудительные новшества, тем более что он сам ими похваляется. Под λακωνιζειν подразумевалась простота спартанских трапез, тогда как выражение «поджаривать на сковороде» намекает на некоторую роскошь, до которой Алкивиад был столь охоч. Но Б., по-видимому, придает этому слову чувственное значение: согласно
Суде, λακωνίζει ν означает «питать склонность к мальчикам» (παιδικοΐς χρησθαι), так что Алкивиаду предоставляется случай похвастаться еще одной из своих заслуг: он научил людей приступать к выпивке с утра пораньше 37 . Афиняне, несомненно, осуждали тех, кто начинал выпивать поутру; с этой точки зрения интересен отрывок из Батона, в котором отец сокрушается о том, что под влиянием поклонника его сын пристрастился к этой дурной привычке и теперь никак не может от нее избавиться. Плиний также называет изобретателем этого нововведения Алкивиада.
АРИСТОФАН
Мы не станем обсуждать значение комедиографа Аристофана и его выдающуюся роль в истории греческой комедии, а лишь вкратце остановимся на исторических предпосылках отдельных комедий и их взаимосвязи. В рамках нашей темы могут быть приведены отрывки из следующих комедий:
(а) «Ахарняне» (драма поставлена в 425 г. до н.э.)
Здесь мы находим фаллическую песнь (262 ел.):
Фалес, приятель Вакха ты,
Любитель кутежей ночных,
И мальчиков, и женщин!
Шесть лет прошло. И вот опять
Тебе молюсь, вернувшись в дом. Довольно горя, хватит битв!
Ламахи надоели!
[перевод А. Пиотровского]
(б) «Женщины в народном собрании» (поставлены в 389 или 392 г. до н.э.)
Строки 877 и сл. Гротескная сцена амебейного (поочередного) песенного спора между старой и молодой проститутками; единственная такая сцена во всей мировой литературе.
СТАРУХА Чего ж мужчины не идут? Пора пришла.
Помазавши себе лицо белилами
И нарядившись в юбочку шафранную,
Сижу напрасно, песенку мурлыкаю,
Воркую, чтобы изловить прохожего.
О Музы, снизойдите на уста мои,
Внушите песню сладко-ионийскую!
37 Фраш. 351: - ΑΛΚΙΒ. μνσω λακωνιζειν, ταγηνιζειν δε καν πρναιμην.
Β. πολλας δ ...οχμαι νυν βεβινησθαν..
Α. ...ος δε πρώτος εξευπεν το πρωί πιπινειν
Β πολλην γε λακκοπρωκτιαν ημιν επισταζ ευπων.
Α. ειεν. τις ειπεν αμιδα πόα πρώτος μεταξύ πίνων;
Β. Παλαμηδικον δε τούτο τουςευρημα καν σοφον σου.
О питье с утра ср. Батон у Афинея, ш, 193 с; также комментарии к «Птицам» Аристофана, 131; Плиний, Естеств. история, xiv, 143; Ath., 519e.
ДЕВУШКА Гнилушка! Из окна нахально свесилась
И думаешь, пока я далеко, моим
Полакомиться виноградом? Песенкой
Завлечь дружка? Я песнь спою ответную.
Такая шутка хоть привычна зрителям,
Занятна все же и сродни комедии.
СТАРУХА Со стариком якшайся! Забавляйся с ним!
А ты, флейтистка милая, свирель возьми
И песнь сыграй достойную обеих нас.
ФЛЕЙТИСТКА играет. (Поет в сопровождении флейты.)
Если хочешь узнать блаженство,
Спи, дружочек, в моих объятьях.
Толку нет в молодых девчонках,
Сладость в нас, подружках зрелых.
Из девчонок кто захочет
Верной быть и неизменной
Другу сердца?
От одних к другим порхают.
ДЕВУШКА (поет в сопровождении флейты.)
Не брани красоток юных!
Томной негой наслажденья
Стан наш прелестный дышит.
Грудки - сладостный цветок.
Ты ж, старуха,
Гроб в известке, труп в румянах,
Смерть по тебе скучает.
СТАРУХА Лопни, дрянная девка!
Ложе твое пусть рухнет,
Чуть обнимать захочешь!
Пусть змея в подушки ляжет,
Пусть змея тебя оближет,
Чуть целовать захочешь!
ДЕВУШКА (поет.) Ай-ай-ай! Истомилась я,
Милый не приходит.
Мать со двора ушла,
Куда - известно, только говорить нельзя.
(Старухе.)
Тебя заклинаю, бабуся,
Зови Орфагора, если
Сама забавляться любишь.
СТАРУХА Скорей на ионийский лад
Уймешь ты зуд греховный!
А может, приспособишь и лесбийский лад...
ДЕВУШКА У меня забавки милой
Не отнимешь! Час любви
Не загубишь ты мой, не похитишь!
СТАРУХА Пой, сколько хочешь! Изгибайся ласочкой! Ко мне пойдут сначала, а потом к тебе.
ДЕВУШКА К тебе придут на похороны, старая!
СТАРУХА За новизной старухи не гоняются! Мои года - тебе печаль?
ДЕВУШКА А что ж еще? Твои румяна, что ли? Притирания?
СТАРУХА Зачем дразниться?
ДЕВУШКА А зачем в окно глядишь?
СТАРУХА Пою про Эпигона, друга верного.
ДЕВУШКА Гнилая старость - вот твой друг единственный!
СТАРУХА Сейчас дружка увидишь - он зайдет ко мне.
Да вот и он.
В отдалении появляется ЮНОША
ДЕВУШКА Проказа! Не тебя совсем
Здесь ищет он.
СТАРУХА Меня.
ДЕВУШКА Чахотка тощая!
Пускай он сам докажет. От окна уйду.
СТАРУХА И я. Смотри, какая благородная!
ЮНОША (в венке и с кубком в руке входит на орхестру, поет.)
Если б мог я уснуть с девчонкой юной,
Если б мне не лежать сперва с курносой,
Гнилой старухой! Отвращенье!
Невыносимо это для свободного!
СТАРУХА (выглядывает из окна.)
Хоть ты плачь, а ложись! Мне Зевс свидетель!
Ты не с дурой сошелся Хариксеной.
Справедливый велит закон,
По правилам живем демократическим.
Постерегу, что делать он теперь начнет,
(Удаляется вновь.)
ЮНОША Пошлите мне, о боги, ту красавицу,
К которой от попойки я ушел, томясь.
ДЕВУШКА в окне.
Старуху обманула я проклятую -
Она исчезла, веря, что и я уйду.
Но вот и тот, о ком я вечно помнила. (Поет.)
О приди, о приди!
Миленький мой, ко мне приди!
Со мною ночь без сна побудь
Для сладостных, счастливых игр.
Бесконечно влечет меня страсть
К смоляным твоим кудрям.
Безграничное желанье
Томным пламенем сжигает.
Снизойди, молю, Эрот,
Чтобы он в моей постели
Оказался тотчас!
ЮНОША (поет под окном девушки.)
О приди, о приди! Друг прелестный, поспеши
Отворить мне двери! А не откроешь, лягу здесь, наземь, в пыль,
Жизнь моя! Грудь твою жажду я Гладить рукой горячей
И жать бедро. Зачем, Киприда, к ней я страстью пылаю?
Снизойди, молю, Эрот,
Чтоб она в моей постели
Оказалась тотчас.
Где песнь найти и где слова, чтобы передать свирепость
Моей тоски? Сердечный друг! Я умоляю, сжалься!
Открой и будь нежнее! Разорвала мне сердце ты.
Златокрылая моя забота! Дочь Киприды!
Ты пчелка песен! Ласка Харит! Радость! Улыбка счастья!
Открой и будь нежнее! Разорвала мне сердце ты!
(Яростно стучится в дверь.)
СТАРУХА Чего стучишься? Ищешь ты меня?
ЮНОША Ничуть.
СТАРУХА Ты в дверь мою стучался?
ЮНОША Провалиться мне!
СТАРУХА Так для чего ж сюда примчался с факелом?
ЮНОША Искал друзей из дема Онанистов 38 .
СТАРУХА Как?
ЮНОША Для старых кляч объездчиков сама ищи.
СТАРУХА Клянусь Кипридой, хочешь ли, не хочешь ли...
ЮНОША В шестидесятилетних нам пока еще
Нет нужды. Мы на завтра отложили их.
Кому и двадцати нет, те в ходу сейчас.
СТАРУХА При старой власти было так, голубчик мой!
Теперь не то - за нами нынче первый ход.
ЮНОША Как ходят в кости? В кости не игрок с тобой.
СТАРУХА А не игрок - так без обеда будешь ты.
ЮНОША Не знаю, что болтаешь. В эту дверь стучусь!
СТАРУХА Сперва в мою ты должен постучаться дверь.
ЮНОША Гнилого решета не надо даром мне.
СТАРУХА Меня ты любишь, знаю. Удивляешься,
Что здесь я, перед дверью. Дай обнять тебя!
ЮНОША Пусти! Страшусь я твоего любовника.
СТАРУХА Кого же?
ЮНОША Живописца пресловутого.
СТАРУХА Кого?
ЮНОША Сосуды красит погребальные
Для мертвых он. Уйди! Тебя заметит здесь.
СТАРУХА Чего ты жаждешь, знаю.
ЮНОША Знаю - ты чего.
СТАРУХА Кипридою клянусь, меня избравшею, Тебя не отпущу я!
ЮНОША Бредишь, старая!
СТАРУХА Ты вздор несешь. В мою постель стащу тебя.
ЮНОША Зачем крюки для ведер покупали мы?
Не лучше ль вот такие вилы старые
Спустить в колодец и на них ведро тянуть?
СТАРУХА Не издевайся, милый, и ко мне иди.
ЮНОША Не смеешь заставлять! Ты пятисотую
Часть своего добра в казну внеси сперва!
СТАРУХА Заставлю! И, клянусь я Афродитою,
С такими молодыми спать приятно мне.
ЮНОША А мне лежать со старыми охоты нет! Я ни за что не соглашусь!
СТАРУХА Свидетель Зевс,Тебя принудит это вот\
38 Буквально: «из Анафлистииского дема». (Прим. пер.).
ЮНОША Что это вот?
СТАРУХА Закон. Тебе велит он ночевать со мной.
ЮНОША А что стоит в законе? Прочитай!
СТАРУХА Прочту!
«Постановили женщины, когда юнец
С молоденькой захочет переспать, сперва
Пускай прижмет старуху. А откажется
Прижать старуху и поспит с молоденькой,
В законном праве пожилые женщины,
Схватив за жгут, таскать юнца беспошлинно».
ЮНОША Беда! Боюсь проделок я Прокрустовых.
СТАРУХА Законов наших мы заставим слушаться!
ЮНОША А что, когда земляк или приятель мой
Даст выкуп за меня?
СТАРУХА Неправомочен он Распоряжаться сверх медимна суммою.
ЮНОША Спастись присягой можно?
СТАРУХА Без влияния!
ЮНОША А заявить, что я купец?
СТАРУХА Наплачешься!
ЮНОША Так что ж мне делать?
СТАРУХА Как велю, со мной идти.
ЮНОША Ведь это же насилье!
СТАРУХА Диомедово!
ЮНОША Тогда полынь насыпь на ложе брачное,
Четыре связки лоз поставь, и траурной
Повязкой повяжись и погребальные
Кувшины вынь, водицу у дверей налей!
СТАРУХА Тогда уж и могильный мне венок купи!
ЮНОША Конечно! Если только доживешь до свеч
И как щепотка пыли не рассыплешься.
Из дома выходит ДЕВУШКА.
ДЕВУШКА Куда его ты тащишь?
СТАРУХА Мой! С собой веду.
ДЕВУШКА Бессмыслица! Тебе же не ровесник он.
Ну, как с такою старой ночевать юнцу?
Ты в матери годишься, не в любовницы.
Ведь если будете закону следовать,
Эдипами всю землю переполните.
СТАРУХА Завидуешь ты мне, о тварь негодная!
И потому болтаешь! Отомщу тебе! (Уходит).
ЮНОША Спаситель Зевс, красотка, славен подвиг твой!
Цветочек! Ты у ведьмы отняла меня.
За эту милость нынешним же вечером
Могучим, жарким даром отплачу тебе.
[перевод А. Пиотровского]
АЛЕКСИД
Алексид был уроженцем Фурий в Нижней Италии, жил приблизительно в 392-288 гг. до н.э. и оставил, согласно Суде, 245 комедий.
Первая из интересующих нас комедий - «Агонида» (имя гетеры). Скудные фрагменты ничего не говорят о ее содержании, но не подлежит
сомнению, что известную роль в ней играл Мисгол из аттического дема Коллит. Некоторые авторы свидетельствуют о страсти Мисгола к мальчикам, особенно тем, что умеют играть на кифаре; так, Эсхин говорит (Tim., i, 41): «Этот Мисгол, сын Навкрата из дема Коллит, в других отношениях человек прекрасный душой и телом; но он всегда питал слабость к мальчикам и возле него постоянно увиваются какие-то кифареды и кифаристы». Антифан (фрагм. 26, 14-18) еще прежде намекал на него в своих «Рыбаках», а Тимокл (фрагм. 30) - в «Сафо». В «Агониде» (фрагм. 3) девушка говорит матери: «Матушка, не выдавай меня, прошу, за Мисгола, ведь я не играю на кифаре».
Фрагмент 242 (из комедии «Сон»): «Этот юноша не ест чеснока, чтобы, целуя возлюбленного, не внушить ему отвращения».
ТИМОКЛ
В комедии Тимокла «Ореставтоклид» известную роль играли любовные связи с юношами некоего Автоклида. Имелся в виду Автоклид из Агнуса, которого упоминает оратор Эсхин в известной речи против Тимарха (i, 52). Замысел комедиографа был примерно следующим: как фурии преследовали некогда Ореста, так теперь стая гетер преследует поклонника мальчиков Автоклида; на это указывает по крайней мере фрагмент 25, где говорится о том, что не менее одиннадцати гетер стерегут несчастного даже во время сна.
МЕНАНДР
Менандр Афинский, сын Диопита и Гегесистраты, живший с 342 по 291 гг. до н.э., был племянником вышеупомянутого Алексида, поэта Средней Комедии, который познакомил Менандра с искусством комедиографии. Уже в возрасте 21 года Менандр одержал победу, и хотя он удостаивался первого приза еще не менее семи раз, его можно отнести к числу тех поэтов, которых больше ценили и любили потомки, чем современники. Мы уже говорили о его «Андрогине, или Критянах».
Во фрагменте 363 описывается поведение кинеда (cinaedus, развратник); поэт здесь ловко намекает на Ктесиппа 39 , сына Хабрия, о котором говорили, что он продал даже камни с отцовского надгробия, лишь бы по-прежнему предаваться наслаждениям: «И я, жена, был когда-то юношей, но не купался по пяти раз на дню. А теперь купаюсь. У меня не было даже тонкого плаща. А теперь есть. И благоухающего масла не было. А теперь есть. Буду красить волосы, буду выщипывать волосы и вскорости превращусь в Ктесиппа»
39 О Ктесиппе см. Дифил, фрагм. 38 (и, 552, Kock) и Тимокл, фрагм.. (п, 452, Kock); фрагм. 480: πόσθων, penis и ласкательное имя для маленького мальчика. Ср. Гесихий, s.v. σμόρδωνες υποκοριστικώς από των μορίων, ως ποσθωνες; Apollodorus, frag. 13, 8; την γαρ αΐσχύνην πάλαι πασαν άπυλωλέκασι καθ" ετέρας θύρας. Другие сексуальные аллюзии, остроты и непристойности из аттической комедии собраны мной в Anthropophyteia, vu, 1910, SS. 173, 495.
НАРЯДУ с праздниками и праздничными обычаями величайшее значение для познания народных нравов имеют публичные представления. Само собой разумеется, что наше описание греческого театра по необходимости ограничится выделением черт, характерных для греческой половой жизни; знание читателем греческого драматического искусства, по меньшей мере сохранившихся драматических произведений, предполагается как самоочевидный постулат общей культуры. При этом выяснится обстоятельство, которое поразит многих, хотя в нем нет ничего неожиданного для знатока: на греческой сцене гомосексуальные составляющие жизни не только ни в коей мере не игнорируются и не затушевываются по какой бы то ни было причине, но, напротив, играют важную, иногда доминирующую роль; поэтому многие факты, относящиеся к последующим главам, будут упомянуты или подробно изложены уже здесь.
I . АТТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
От Эсхила и Софокла до нас дошло по семь полностью сохранившихся произведений, от Еврипида - девятнадцать. В первую очередь будут обсуждаться не они, но лишь те аттические трагедии, которые сохранились во фрагментах. Полностью сохранившиеся трагедии известны гораздо шире, чем фрагменты, так что мне показалось более важным сообщить некоторые сведения о последних.
1. ЭСХИЛ
Из драм Эсхила, известных нам только по случайным цитатам, можно упомянуть трагедию «Лай», так как здесь, судя по содержанию, говорилось о любви к юношам. Она составляла начальную часть тетралогии, с которой поэт завоевал первую награду в 78-ю Олимпиаду (467 г. до н.э.), при архонте Феагениде; вторая, третья и четвертая части были представлены трагедиями «Эдип», «Семеро против Фив» и сатировской драмой «Сфинкс».
К несчастью, от «Лая» сохранились лишь две незначительные глоссы; однако мы в состоянии кое-что сказать о его сюжете. Существует немало доводов в пользу того, что любовь Лая к юноше Хрисиппу, прекрасному сыну Пелопа, образовывала подоплеку дальнейшей трагической судьбы злосчастного царя. Согласно многим греческим преданиям, Лай считался
изобретателем любви к юношам. К этому можно добавить также сообщение о том, что Пелоп - лишившийся сына отец - произнес страшное проклятие похитителю, довлевшее, скрыто передаваясь по наследству, сыну и внукам Лая, пока сила проклятия не была подорвана смертью Эдипа, который после полной скорбей жизни по воле неба был очищен от греха. Здесь следует избежать грубой ошибки, которую совершают другие, в остальном хорошо знающие античность люди; проклятие отца вызвано не тем, что Лай полюбил юношу и сошелся с ним, а следовательно, не «противоестественной природой» его страсти, как можно было бы предположить, принимая во внимание современные взгляды на педерастию, но только и исключительно потому, что Лай похищает и умыкает юношу вопреки воле отца: виновным Лая делает не извращенная направленность его страсти, а примененное им насилие. Похищение, несомненно, является в целом самым обычным началом всех половых связей первобытной эпохи, и мы знаем, что умыкание женщин и мальчиков как религиозная церемония может иметь место и в высшей степени цивилизованные времена; но схожим образом мы обнаруживаем повсюду, что похищение должно оставаться мнимым, и что использование настоящего насилия осуждается как общественным мнением, так и законами. То, что такой взгляд на вину Лая является правильным, мы увидим из сравнения данного сюжета с формой умыкания, обычной на Крите, о которой речь пойдет далее.
Таким образом, мы вправе говорить о том, что отдельной темой данной трагедии Эсхила было проклятие, которому обрекался нарушивший общепринятую норму Лай: герой думал, будто вынужден похитить мальчика, тогда как он мог просить об этом прекрасном даре свободно и открыто. Проклятие, призванное на его голову, содержит в себе ужасную иронию: после женитьбы царю будет отказано в том, что было для него главной радостью молодости, - в возлюбленном юноше. Его супружество остается бездетным, и когда вопреки року он все-таки порождает сына, катастрофическое сцепление звеньев судьбы обрекает его на гибель от руки наследника, которого он так страстно жаждал. Направляемая слепой яростью судьбы рука отцеубийцы мстит за греховное попрание свободной воли мальчика, которое прежде совершил сам Лай. Но смерть от руки сына - следствие появления страшной Сфинги; чтобы освободить свою страну от этой пагубы, Лай отправляется в Дельфы просить совета или помощи светоносного бога; на обратном пути он встречает остающегося неузнанным сына, который и проливает кровь отца. Неожиданно новым светом озаряется и глубинное значение загадки Сфинги, на которую так ответил Эдип: «Человек на заре жизни свеж и исполнен радостных надежд, а на закате - это слабое и сломленное существо». Одним из таких достойных жалости существ и был Лай, а сын, поразивший отца, оказался единственным человеком, кому хватило ума для того, чтобы разрешить загадку. Если кого-то не трогает такой трагизм, если - в согласии с современным воззрением - кто-то видит вину Лая в любви к сыну Пелопа, - что ж, поэт писал не для него.
В другом месте я говорил о широко распространенной точке зрения, по которой в поэмах Гомера нет и следа педерастии, и только в позднейшую эпоху вырождения греки находили ее следы у Гомера. В своей драме «Мирмидоняне» Эсхил показывает, что узы привязанности между Ахиллом и Патроклом трактовались как сексуальная связь, и впервые это произошло не в эпоху упадка, но в пору прекраснейшего весеннего цветения эллинской культуры. Драма содержала эпизод, в котором Ахилл, тяжко оскорбленный Агамемноном, в гневе воздерживается от участия в бое и утешается в своем шатре с Патроклом. Трагический хор бьш представлен ахилловыми мирмидонянами, которые в конце концов уговаривают героя позволить им участвовать в сражении под началом Патрокла. Драма заканчивалась гибелью последнего и безнадежной скорбью Ахилла.
2. СОФОКЛ
Во фрагментах, сохранившихся от драматических произведений Софокла, часто говорится о любви к мальчикам и юношам.
Это не удивит тех, кто знаком с жизнью поэта. Великий трагик, о мужской красоте которого и поныне лучше остальных памятников красноречиво свидетельствует знаменитая статуя в Латеране, еще мальчиком был наделен необыкновенной прелестью и миловидностью. Он настолько преуспел в танце, музыке и гимнических искусствах, что на его черные волосы часто возлагался победный венок. Когда греки готовились к празднику в честь славного саламинского сражения, юный Софокл показался столь совершенным воплощением юношеской красоты, что его поставили во главе хоровода юношей - обнаженным и с лирой в руках (см. ????? ?????????? и Ath ., i , 20).
Ослепительный герой «Илиады» Ахилл в пьесе «Поклонники Ахилла», бывшей, скорее всего, сатировской драмой, предстает перед нами в облике прекрасного мальчика. Весьма вероятно, что действие драмы, от которой сохранилось несколько скудных фрагментов, разворачивалось на вершине Пелиона или в пещере Хирона, знаменитого кентавра и воспитателя героев. О красоте юноши можно судить по строке: «Он глаз своих бросает стрелы» [Софокл, фрагм. 151; перевод? . ? . Зелинского]. Более длинный фрагмент из девяти строк (Софокл, 153) сравнивает любовь со снежком, который- тает в руках играющего мальчика. Можно предположить, что тем самым Хирон намекает на свое смутное влечение к мальчику. В конце концов Фетида забирает сына у его наставника (Софокл, фрагм. 157, где выражение?? ??????? употреблено в эротическом смысле), и сатиры пытаются утешить Хирона, переживающего утрату возлюбленного. Вероятно, составлявшие хор сатиры также выступали в роли поклонников мальчика; высказывалось предположение, что в конце им приходилось удалиться «обманутыми и укрощенными».
Известный по «Илиаде» (xxiv , 257) нежный сын Приама Троил, юношеской красотой которого восторгался уже трагик Фриних, в
одноименной драме Софокла выступал в качестве любимца Ахилла. Все, что мы знаем о сюжете пьесы, сводится к тому, что Ахилл по ошибке убивает своего любимца во время каких-то гимнастических упражнений. Иными словами, Ахилла постигает такое же несчастье, что и Аполлона, который в результате несчастного случая при метании диска убил горячо любимого им Гиакинта. Ахилл оплакивал смерть Троила; от его плача дошел единственный стих, в котором Троил именуется????????? , или мальчиком, который разумом не уступает мужу (Софокл, фрагм. 562).
Не остается никаких сомнений в том, что обсценные выражения встречались даже в драмах Софокла (например, фрагм. 388 ????????? ; фрагм. 390 ??????????? ; фрагм. 974: ?????).
3. ЕВРИПИД
История Хрисиппа, юного любимца Лая, послужила сюжетом также для драмы Еврипида. Названная по имени главного героя, драма «Хри-сипп» имела своим поводом личное переживание самого поэта. К числу прекраснейших юношей, притягивавших в ту эпоху чужестранцев на улицы Афин, принадлежал Агафон, сын Тисамена. Этому Агафону Аристофан дает широко известную остроумную характеристику в «Женщинах на празднике Фесмофорий»; он играет важную роль в «Пире» Платона; как трагического поэта его высоко ценил Аристотель. Современникам он представлялся богом, сошедшим с небес и шествующим в человеческом облике по земле. Но многие стремились добиться любви этого эфеба; его красота привела к сцене ревности между Сократом и Алкивиадом, которая так прелестно описана Платоном. Сообщают, что даже насмешник Еврипид был околдован необыкновенными чарами этого поразительного красавца, что именно ради него он написал и поставил своего «Хрисиппа». Если это утверждение верно, - а у нас нет причин подвергать его сомнению, - можно высказать догадку, что герой пьесы Хрисипп был создан по образу прекрасного Агафона и что в образе Лая поэт вывел себя самого. У Цицерона (Tusc . disp ., iv , 33, 71) мы находим, замечание, из которого явствует, что в основании драмы лежала вожделеющая чувственность, и что желания Лая, ищущего благосклонности юноши, обнаруживались здесь совершенно отчетливо и неприкрыто. Необходимо уяснить, что речь идет о драме, исполнявшейся публично; на ней, конечно, присутствовали и Еврипид, и прекрасный Агафон. В конце пятого века, в Афинах, знаменитый поэт стремился таким образом завоевать благосклонность выдающегося юноши, равно славившегося красотой и рафинированной образованностью.
Немногочисленные фрагменты не дают, разумеется, подробных сведений о содержании трагедии. Еврипид придерживается широко распространенного мнения, согласно которому Лай был первым, кто ввел в Греции любовь к юношам. Лай также, по-видимому, сопротивлялся своей страсти, особенно если принять во внимание убежденность греков
в том, что любовь - это род недуга, она расстраивает безмятежность духа, а потому с ней следует бороться оружием разума Подобно Медее, противящейся своей любви к Ясону (Овидии, «Метаморфозы», 720), Лай (Еврипид, фрагм 841) жалуется на то, что люди знают правое, но поступают наоборот. Возможно, драма заканчивалась гибелью Хрисиппа, так как Еврипид писал трагедию, ввиду противоречивости традиции большего сказать мы не в состоянии.
II . АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
Греческая комедия порождена плещущим через край благочестивым восторгом, выражением благодарности Дионису, величайшему сокрушителю забот и подателю радости, вечно юному богу плодородия щедрой, неизменно обновляющей самое себя природы Поэтому комедия изобилует непристойностями, которые неразрывно связаны с почитанием духов плодородия. Поскольку комедия является гротескно искаженным отражением жизни, постольку в греческой комедии половая жизнь повсюду выступает на передний план, представая перед нами бурлящим котлом ведьм, чудовищной оргией, в которой, ошеломляя зрителя, словно вокруг исполинской оси гротескного фаллоса, вращаются бесконечно запутанные половые вожделения и всевозможные разновидности любовных утех. Любовь к мальчикам имеет в комедии практически такое же значение, как и любовь к женщинам. Само собой разумеется, что греческая комедия, как и все другие виды поэзии, просто немыслима без любви к мальчикам; эта любовь ни в коей мере не является изнанкой гротескного юмора дионисийского распутства, но служит одним из фокусов, на котором сосредоточена греческая, особенно аттическая, комедия. Но, как уже сказано, нам придется иметь дело с искаженным отражением. Потому-то здесь и не слышны нежные речи скромного юноши Эрота, превратившегося в грубого Приапа. Харита, конечно, спрячет, устыдившись, свое лицо, но наука не может обойти эти факты молчанием.
1. ФЕРЕКРАТ
Из неизвестной комедии Ферекрата (фрагм. 135) до нас дошло оскорбительное изречение. Упрекая Алкивиада в излишней уступчивости мужчинам, персонаж Ферекрата поносит его также как угрозу женщинам: «Алкивиад, который, кажется, вовсе не был мужем, стал ныне мужем всех жен» 36 .
36 Ср Светоний, «Цезарь», 32 Cuno pater eum (sc Caesarem) omnium muherum virum et omnium virorum muherem apellat , Цицерон, «Против Верреса», и, 78, 192 at homo magis vir inter muheres , impura inter viros muheroula profem non potest
2. ЕВПОЛИД
Евполид Афинский является для нас более щедрым источником. Его расцвет приходится на годы Пелопоннесской войны, а около 411 г. до н.э. он погиб, сражаясь за родину при Геллеспонте. Это был один из самых тонких умов среди авторов Древней Комедии, и еще многие годы после его смерти веселая муза Евполида пользовалась всеобщей любовью благодаря своему остроумию и прелести. Не менее семи его комедий из четырнадцати или семнадцати (по различному счету) удостоились первого приза. В четвертый год 89-й Олимпиады (421 г. до н.э.) Евполид поставил комедию «Автол и к», пересмотренный вариант которой был спустя десять лет исполнен вторично. Автолик был сыном Ликона и Родии, юношей такой красоты, что восхищенный Ксенофонт (Symposion , i , 9) писал о нем так: «...как светящийся предмет, показавшийся ночью, притягивает к себе взоры всех, так и тут красота Автолика влекла к нему очи всех» [перевод С. А. Соболевского]. Этот Автолик был любимцем Каллия, славившегося своим богатством и легкомысленным образом жизни, который в ознаменование победы прекрасного юноши в панкратии на Панафинейских играх 422 г. до н.э. задал в его честь пир, описанный Ксенофонтом в знаменитом «Симпосии». Жизнь Автолика оборвалась трагически: после взятия города Лисандром он был казнен по приказу Тридцати тиранов.
О содержании пьесы с определенностью может быть сказано лишь следующее: любовь Каллия и Автолика выставлялась здесь в чрезвычайно неблагоприятном свете, и даже родители юноши, принимавшие участие в пире, были осыпаны насмешками и грязью; осмеянию подвергся и сам пир (Ath ., ? , 216е; Eupolis , frag . 56: ????????? ???? ?? ????????? ??? ????????? ? ??????? ???????; фрагм. 61: ?????????? (онанизм)).
415 г. до н.э. Евполид представил на городских Дионисиях задорную комедию Baptae («Окропители»), где жестоко высмеивалась частная жизнь Алкивиада. В этих окропителях следует, вероятно, видеть товарищей Алкивиада, устраивавших ночные оргии во славу богини распутства Котитто и подражавших на них танцам женщин; известную роль здесь играли сладострастные омовения и очищения. Из одного отрывка Лукиана (Adv . Ind . , 27: «И ты не покраснел, читая эту пьесу») явствует, что комедия изобиловала непристойностями.
«Льстецы» (поставлены в 423 г. до н.э.) были, очевидно, полностью посвящены любви к юношам. Здесь изображен Демос, выставивший себя на продажу, и во фрагменте 265 мы слышим· его жалобу: «Клянусь Посидоном, дверь моя не знает покоя», - так много посетителей, рвущихся на него посмотреть. Демос, сын Пирилампа, богатого афинянина, друга Перикла, выступает в роли знаменитого фаворита и у Аристофана («Осы», 97; ср. игру слов в платоновском «Горгии», 481 d). В пьесе имеется также беседа Алкивиада с Б. - лицом нам неизвестным, - где Алкивиад высмеивается за некоторые предосудительные новшества, тем более что он сам ими похваляется. Под?????????? подразумевалась простота спартанских трапез, тогда как выражение «поджаривать на сковороде» намекает на некоторую роскошь, до которой Алкивиад был столь охоч. Но Б., по-видимому, придает этому слову чувственное значение: согласно
Суде, ????????? ? означает «питать склонность к мальчикам» (????????? ???????), так что Алкивиаду предоставляется случай похвастаться еще одной из своих заслуг: он научил людей приступать к выпивке с утра пораньше 37 . Афиняне, несомненно, осуждали тех, кто начинал выпивать поутру; с этой точки зрения интересен отрывок из Батона, в котором отец сокрушается о том, что под влиянием поклонника его сын пристрастился к этой дурной привычке и теперь никак не может от нее избавиться. Плиний также называет изобретателем этого нововведения Алкивиада.
3. АРИСТОФАН
Мы не станем обсуждать значение комедиографа Аристофана и его выдающуюся роль в истории греческой комедии, а лишь вкратце остановимся на исторических предпосылках отдельных комедий и их взаимосвязи. В рамках нашей темы могут быть приведены отрывки из следующих комедий:
(а) «Ахарняне» (драма поставлена в 425 г. до н.э.)
Здесь мы находим фаллическую песнь (262 ел.):
Фалес, приятель Вакха ты,
Любитель кутежей ночных,
И мальчиков, и женщин!
Шесть лет прошло. И вот опять
Тебе молюсь, вернувшись в дом. Довольно горя, хватит битв!
Ламахи надоели!
[перевод А. Пиотровского]
(б) «Женщины в народном собрании» (поставлены в 389 или 392 г. до н.э.)
Строки 877 и сл. Гротескная сцена амебейного (поочередного) песенного спора между старой и молодой проститутками; единственная такая сцена во всей мировой литературе.
СТАРУХА Чего ж мужчины не идут? Пора пришла.
Помазавши себе лицо белилами
И нарядившись в юбочку шафранную,
Сижу напрасно, песенку мурлыкаю,
Воркую, чтобы изловить прохожего.
О Музы, снизойдите на уста мои,
Внушите песню сладко-ионийскую!
37 Фраш. 351: - ?????. ???? ??????????, ?????????? ?? ??? ????????.
?. ?????? ? ...????? ??? ??????????..
?. ...?? ?? ?????? ??????? ?? ???? ????????
? ?????? ?? ????????????? ???? ??????? ?????.
?. ????. ??? ????? ????? ??? ?????? ?????? ?????;
?. ??????????? ?? ????? ?????????? ??? ????? ???.
О питье с утра ср. Батон у Афинея, ш, 193 с; также комментарии к «Птицам» Аристофана, 131; Плиний, Естеств. история, xiv , 143; Ath ., 519 e .
ДЕВУШКА Гнилушка! Из окна нахально свесилась
И думаешь, пока я далеко, моим
Полакомиться виноградом? Песенкой
Завлечь дружка? Я песнь спою ответную.
Такая шутка хоть привычна зрителям,
Занятна все же и сродни комедии.
СТАРУХА Со стариком якшайся! Забавляйся с ним!
А ты, флейтистка милая, свирель возьми
И песнь сыграй достойную обеих нас.
ФЛЕЙТИСТКА играет. (Поет в сопровождении флейты.)
Если хочешь узнать блаженство,
Спи, дружочек, в моих объятьях.
Толку нет в молодых девчонках,
Сладость в нас, подружках зрелых.
Из девчонок кто захочет
Верной быть и неизменной
Другу сердца?
От одних к другим порхают.
ДЕВУШКА (поет в сопровождении флейты.)
Не брани красоток юных!
Томной негой наслажденья
Стан наш прелестный дышит.
Грудки - сладостный цветок.
Ты ж, старуха,
Гроб в известке, труп в румянах,
Смерть по тебе скучает.
СТАРУХА Лопни, дрянная девка!
Ложе твое пусть рухнет,
Чуть обнимать захочешь!
Пусть змея в подушки ляжет,
Пусть змея тебя оближет,
Чуть целовать захочешь!
ДЕВУШКА (поет.) Ай-ай-ай! Истомилась я,
Милый не приходит.
Мать со двора ушла,
Куда - известно, только говорить нельзя.
(Старухе.)
Тебя заклинаю, бабуся,
Зови Орфагора, если
Сама забавляться любишь.
СТАРУХА Скорей на ионийский лад
Уймешь ты зуд греховный!
А может, приспособишь и лесбийский лад...
ДЕВУШКА У меня забавки милой
Не отнимешь! Час любви
Не загубишь ты мой, не похитишь!
СТАРУХА Пой, сколько хочешь! Изгибайся ласочкой! Ко мне пойдут сначала, а потом к тебе.
ДЕВУШКА К тебе придут на похороны, старая!
СТАРУХА За новизной старухи не гоняются! Мои года - тебе печаль?
ДЕВУШКА А что ж еще? Твои румяна, что ли? Притирания?
СТАРУХА Зачем дразниться?
ДЕВУШКА А зачем в окно глядишь?
СТАРУХА Пою про Эпигона, друга верного.
ДЕВУШКА Гнилая старость - вот твой друг единственный!
СТАРУХА Сейчас дружка увидишь - он зайдет ко мне.
Да вот и он.
В отдалении появляется ЮНОША
ДЕВУШКА Проказа! Не тебя совсем
Здесь ищет он.
СТАРУХА Меня.
ДЕВУШКА Чахотка тощая!
Пускай он сам докажет. От окна уйду.
СТАРУХА И я. Смотри, какая благородная!
ЮНОША (в венке и с кубком в руке входит на орхестру, поет.)
Если б мог я уснуть с девчонкой юной,
Если б мне не лежать сперва с курносой,
Гнилой старухой! Отвращенье!
Невыносимо это для свободного!
СТАРУХА (выглядывает из окна.)
Хоть ты плачь, а ложись! Мне Зевс свидетель!
Ты не с дурой сошелся Хариксеной.
Справедливый велит закон,
По правилам живем демократическим.
Постерегу, что делать он теперь начнет,
(Удаляется вновь.)
ЮНОША Пошлите мне, о боги, ту красавицу,
К которой от попойки я ушел, томясь.
ДЕВУШКА в окне.
Старуху обманула я проклятую -
Она исчезла, веря, что и я уйду.
Но вот и тот, о ком я вечно помнила. (Поет.)
О приди, о приди!
Миленький мой, ко мне приди!
Со мною ночь без сна побудь
Для сладостных, счастливых игр.
Бесконечно влечет меня страсть
К смоляным твоим кудрям.
Безграничное желанье
Томным пламенем сжигает.
Снизойди, молю, Эрот,
Чтобы он в моей постели
Оказался тотчас!
ЮНОША (поет под окном девушки.)
О приди, о приди! Друг прелестный, поспеши
Отворить мне двери! А не откроешь, лягу здесь, наземь, в пыль,
Жизнь моя! Грудь твою жажду я Гладить рукой горячей
И жать бедро. Зачем, Киприда, к ней я страстью пылаю?
Снизойди, молю, Эрот,
Чтоб она в моей постели
Оказалась тотчас.
Где песнь найти и где слова, чтобы передать свирепость
Моей тоски? Сердечный друг! Я умоляю, сжалься!
Открой и будь нежнее! Разорвала мне сердце ты.
Златокрылая моя забота! Дочь Киприды!
Ты пчелка песен! Ласка Харит! Радость! Улыбка счастья!
Открой и будь нежнее! Разорвала мне сердце ты!
(Яростно стучится в дверь.)
СТАРУХА Чего стучишься? Ищешь ты меня?
ЮНОША Ничуть.
СТАРУХА Ты в дверь мою стучался?
ЮНОША Провалиться мне!
СТАРУХА Так для чего ж сюда примчался с факелом?
ЮНОША Искал друзей из дема Онанистов 38 .
СТАРУХА Как?
ЮНОША Для старых кляч объездчиков сама ищи.
СТАРУХА Клянусь Кипридой, хочешь ли, не хочешь ли...
ЮНОША В шестидесятилетних нам пока еще
Нет нужды. Мы на завтра отложили их.
Кому и двадцати нет, те в ходу сейчас.
СТАРУХА При старой власти было так, голубчик мой!
Теперь не то - за нами нынче первый ход.
ЮНОША Как ходят в кости? В кости не игрок с тобой.
СТАРУХА А не игрок - так без обеда будешь ты.
ЮНОША Не знаю, что болтаешь. В эту дверь стучусь!
СТАРУХА Сперва в мою ты должен постучаться дверь.
ЮНОША Гнилого решета не надо даром мне.
СТАРУХА Меня ты любишь, знаю. Удивляешься,
Что здесь я, перед дверью. Дай обнять тебя!
ЮНОША Пусти! Страшусь я твоего любовника.
СТАРУХА Кого же?
ЮНОША Живописца пресловутого.
СТАРУХА Кого?
ЮНОША Сосуды красит погребальные
Для мертвых он. Уйди! Тебя заметит здесь.
СТАРУХА Чего ты жаждешь, знаю.
ЮНОША Знаю - ты чего.
СТАРУХА Кипридою клянусь, меня избравшею, Тебя не отпущу я!
ЮНОША Бредишь, старая!
СТАРУХА Ты вздор несешь. В мою постель стащу тебя.
ЮНОША Зачем крюки для ведер покупали мы?
Не лучше ль вот такие вилы старые
Спустить в колодец и на них ведро тянуть?
СТАРУХА Не издевайся, милый, и ко мне иди.
ЮНОША Не смеешь заставлять! Ты пятисотую
Часть своего добра в казну внеси сперва!
СТАРУХА Заставлю! И, клянусь я Афродитою,
С такими молодыми спать приятно мне.
ЮНОША А мне лежать со старыми охоты нет! Я ни за что не соглашусь!
СТАРУХА Свидетель Зевс,Тебя принудит это вот\
38 Буквально: «из Анафлистииского дема». (Прим. пер.).
ЮНОША Что это вот?
СТАРУХА Закон. Тебе велит он ночевать со мной.
ЮНОША А что стоит в законе? Прочитай!
СТАРУХА Прочту!
«Постановили женщины, когда юнец
С молоденькой захочет переспать, сперва
Пускай прижмет старуху. А откажется
Прижать старуху и поспит с молоденькой,
В законном праве пожилые женщины,
Схватив за жгут, таскать юнца беспошлинно».
ЮНОША Беда! Боюсь проделок я Прокрустовых.
СТАРУХА Законов наших мы заставим слушаться!
ЮНОША А что, когда земляк или приятель мой
Даст выкуп за меня?
СТАРУХА Неправомочен он Распоряжаться сверх медимна суммою.
ЮНОША Спастись присягой можно?
СТАРУХА Без влияния!
ЮНОША А заявить, что я купец?
СТАРУХА Наплачешься!
ЮНОША Так что ж мне делать?
СТАРУХА Как велю, со мной идти.
ЮНОША Ведь это же насилье!
СТАРУХА Диомедово!
ЮНОША Тогда полынь насыпь на ложе брачное,
Четыре связки лоз поставь, и траурной
Повязкой повяжись и погребальные
Кувшины вынь, водицу у дверей налей!
СТАРУХА Тогда уж и могильный мне венок купи!
ЮНОША Конечно! Если только доживешь до свеч
И как щепотка пыли не рассыплешься.
Из дома выходит ДЕВУШКА.
ДЕВУШКА Куда его ты тащишь?
СТАРУХА Мой! С собой веду.
ДЕВУШКА Бессмыслица! Тебе же не ровесник он.
Ну, как с такою старой ночевать юнцу?
Ты в матери годишься, не в любовницы.
Ведь если будете закону следовать,
Эдипами всю землю переполните.
СТАРУХА Завидуешь ты мне, о тварь негодная!
И потому болтаешь! Отомщу тебе! (Уходит).
ЮНОША Спаситель Зевс, красотка, славен подвиг твой!
Цветочек! Ты у ведьмы отняла меня.
За эту милость нынешним же вечером
Могучим, жарким даром отплачу тебе.
[перевод А. Пиотровского]
4. АЛЕКСИД
Алексид был уроженцем Фурий в Нижней Италии, жил приблизительно в 392-288 гг. до н.э. и оставил, согласно Суде, 245 комедий.
Первая из интересующих нас комедий - «Агонида» (имя гетеры). Скудные фрагменты ничего не говорят о ее содержании, но не подлежит
сомнению, что известную роль в ней играл Мисгол из аттического дема Коллит. Некоторые авторы свидетельствуют о страсти Мисгола к мальчикам, особенно тем, что умеют играть на кифаре; так, Эсхин говорит (Tim ., i , 41): «Этот Мисгол, сын Навкрата из дема Коллит, в других отношениях человек прекрасный душой и телом; но он всегда питал слабость к мальчикам и возле него постоянно увиваются какие-то кифареды и кифаристы». Антифан (фрагм. 26, 14-18) еще прежде намекал на него в своих «Рыбаках», а Тимокл (фрагм. 30) - в «Сафо». В «Агониде» (фрагм. 3) девушка говорит матери: «Матушка, не выдавай меня, прошу, за Мисгола, ведь я не играю на кифаре».
Фрагмент 242 (из комедии «Сон»): «Этот юноша не ест чеснока, чтобы, целуя возлюбленного, не внушить ему отвращения».
5. ТИМОКЛ
В комедии Тимокла «Ореставтоклид» известную роль играли любовные связи с юношами некоего Автоклида. Имелся в виду Автоклид из Агнуса, которого упоминает оратор Эсхин в известной речи против Тимарха (i , 52). Замысел комедиографа был примерно следующим: как фурии преследовали некогда Ореста, так теперь стая гетер преследует поклонника мальчиков Автоклида; на это указывает по крайней мере фрагмент 25, где говорится о том, что не менее одиннадцати гетер стерегут несчастного даже во время сна.
6. МЕНАНДР
Менандр Афинский, сын Диопита и Гегесистраты, живший с 342 по 291 гг. до н.э., был племянником вышеупомянутого Алексида, поэта Средней Комедии, который познакомил Менандра с искусством комедиографии. Уже в возрасте 21 года Менандр одержал победу, и хотя он удостаивался первого приза еще не менее семи раз, его можно отнести к числу тех поэтов, которых больше ценили и любили потомки, чем современники. Мы уже говорили о его «Андрогине, или Критянах».
Во фрагменте 363 описывается поведение кинеда (cinaedus , развратник); поэт здесь ловко намекает на Ктесиппа 39 , сына Хабрия, о котором говорили, что он продал даже камни с отцовского надгробия, лишь бы по-прежнему предаваться наслаждениям: «И я, жена, был когда-то юношей, но не купался по пяти раз на дню. А теперь купаюсь. У меня не было даже тонкого плаща. А теперь есть. И благоухающего масла не было. А теперь есть. Буду красить волосы, буду выщипывать волосы и вскорости превращусь в Ктесиппа»
39 О Ктесиппе см. Дифил, фрагм. 38 (и, 552, Kock) и Тимокл, фрагм.. (п, 452, Kock); фрагм. 480: ?????? , penis и ласкательное имя для маленького мальчика. Ср. Гесихий, s . v . ????????? ????????????? ??? ??? ??????, ?? ????????; Apollodorus , frag . 13, 8; ??? ??? ???????? ????? ????? ??????????? ???" ?????? ?????. Другие сексуальные аллюзии, остроты и непристойности из аттической комедии собраны мной в Anthropophyteia , vu , 1910, SS . 173, 495.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ТРАГИЧЕСКОЙ И КОМИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Старинная трагедия еще редко использует эротические мотивы; за исключением эсхиловского «Агамемнона», темой которого является убийство Агамемнона неверной женой, охваченной неистовой ревностью, мы вряд ли можем указать хоть одну трагедию, ядром которой была бы любовь, если не принимать во внимание уже рассмотренных гомоэроти-ческих мотивов. Поначалу считалось, что любовные истории с трагическим концом не годятся для того, чтобы позволить людям ощутить возвышенность трагической судьбы на празднестве бога - подателя высочайшего восторга.
Уже Софокл задействовал любовную страсть гораздо чаще, но только как вспомогательный мотив: примером тому любовь Медеи к Ясону в «Колхидянках» или Гипподамии к Пелопу в «Эномае». Как основная и единственная тема любовная страсть выступает лишь в одной из его драм - в «Федре», чьей осью, вокруг которой вращается все действие, была необоримая любовь Федры к своему прекрасному пасынку Ипполиту, толкающая царицу на преступление. Это - древнейший образец греческой любовной трагедии в собственном смысле слова. Мы вправе предположить, что блестящее изображение демонической страсти произвело на зрителей глубокое впечатление и послужило мощным стимулом для последующей разработки эротических сюжетов. Не только Еврипид использовал тот же мотив в двух драмах, одна из которых дошла до нас, но, согласно Павсанию (i , 22,1), именно предание о Федре и Ипполите позднее было известно повсюду «даже не грекам, если только они знали греческий язык». Еврипид особенно охотно обращался к эротическим темам и тем самым преобразовал героическую трагедию в род «мещанской драмы» с несчастливым концом; несмотря на то, что он достаточно часто вводил в свои пьесы персонажей героической эпохи, его герои - это его современники, а чувства и страсти, запечатленные поэтом, стали общим достоянием всего человечества и более не связаны с определенным историческим периодом.
С этого времени эротика воцарилась на греческой сцене, а Еврипид и позднейшие трагики никогда не уставали изображать всемогущество любви - высшего из блаженств и сжигающей страсти - во все новых и новых вариациях, позволяя зрителям заглянуть во все глубины и бездны величайшей из загадок, называемой любовью 40 . Еврипид был также первым, кто решился представить на сцене мотив инцеста в «Эоле» (фрагменты см. в собрании Nauck , TGF 2 , р. 365), темой которого была любовь Канаки и ее брата Макарея со всеми ее трагическими последствиями. Схожие мотивы гораздо чаще использовались позднейшими трагиками, и в связи с этим мы должны помнить, что на сцене были представлены не только любовь Библиды к ее брату Кавну, но также и любовь Мирры к своему отцу Киниру, а Гарпалики - к своему
40 Относительно эротических мотивов в греческих трагедиях см? Rohde , Dar Roman , 1900, S . 31, хотя Роде не учитывает многочисленные гомосексуальные мотивы
отцу Климену. Овидий, несомненно, ничуть не преувеличивает (Tristia, ii, 381-408), когда, перечислив множество эротических трагедий, заявляет, что недостаток времени не позволит ему назвать их все поименно и что перечисление одних только названий заняло бы всю его книгу 41 .
В то время как еще Аристофан («Облака», 1372; «Лягушки», 1043 ел., 1081), главный представитель Древней Комедии, восставал против того, что благодаря Еврипиду на сцене воцарилось изображение любовных страстей, которые стали главной движущей силой и средоточием драмы (впрочем, комедии самого Аристофана, как мы уже видели, также изобиловали эротикой), - с приходом Новой Комедии положение изменилось и здесь. Точно так же, как в действительности женщины все более и более выходили из изоляции, обязательной для них в древности, так и в комедии любовь мужчины к женщине занимала все большее место. Постепенно любовные интриги и сентиментальная любовь превратились в главную тему комедий. Поэтому Плутарх (см. Stobaeus , Florilegium , 63, 64) совершенно прав, говоря, что «поэзия Менандра была связуема единственной нитью - любовью, которая, как общее животворящее дуновение, разлита по всем его комедиям». Однако и в это время чувственная сторона любви остается главной, ибо все девушки Новой Комедии, которых обхаживают страстно влюбленные юноши, являются гетерами. По-прежнему господствовало убеждение, что брак - это исполнение долга, а отношения с гетерой - дело любви.
Не нуждается в доказательствах тот факт, что древняя сцена обходилась несколькими актерами и что женские роли исполнялись мужчинами.
Наряду с фантастическими масками, буйными выдумками и шутками античная комедия характеризуется также тем, что актеры как служители оплодотворяющего божества носили фаллос, по большей части изготавливавшийся из кожи. После всего уже сказанного о культе фаллоса, этот обычай не кажется более странным; комедия выросла из песен, исполнявшихся во время фаллических - шествий.
Если актер должен был играть обнаженного героя, то в этом случае надевался плотно прилегающий корсаж, как правило, с накладным животом и грудью, на которых были четко обозначены пупок и соски. С течением времени фаллос, по-видимому, использовался все реже; во всяком случае, нам известно немалое число рисунков на вазах, изображающих сценическое представление, на которых фаллос отсутствует. Очевидно, он был неотъемлемым атрибутом Древней Комедии, где в тех сценах, что комическим образом использовали мифологические мотивы, он подчеркивал гротескность и усугублял комизм ситуации. Хор сати-ровской драмы носил передник из козлиной шкуры, из-под которого спереди выглядывал фаллос, а сзади - хвостик сатира.
Современный человек, вероятно, задастся вопросом, посещалась ли комедия с ее ярко эротическими, зачастую весьма непристойными сценами также женщинами и детьми. Несомненно, это не было запрещено; возможно, зрительницами комедии чаще, чем почтенные жены
41 Ср. его Ars Amatona , i , 283-340; Проперций, iii , 19; Вергилий, «Энеида», ?? , 442 сл.
граждан, были гетеры, однако присутствие на них мальчиков засвидетельствовано достаточно определенно. Всякий, кому это покажется странным или даже возмутительным, должен еще раз вспомнить, что древним было присуще вполне наивное отношение к сексуальному, что, видя в нем нечто само собой разумеющееся, они не окружали его покровом тайны, но воздавали е,му религиозное почитание как необходимой предпосылке всеобщего существования. Последние побеги этого религиозного чувства - пусть и искаженные до гротеска - еще различимы в комедии.
III . САТИРОВСКАЯ ДРАМА. ПАНТОМИМА. БАЛЕТ
По-видимому, общеизвестно, что за исполнением серьезных трагедий следовала так называемая сатировская драма, которая, напоминая о веселости ранних праздников Диониса, удовлетворяла стремление публики к более грубой пище и посредством забав и шуток восстанавливала равновесие после душевных потрясений, вызванных трагическими судьбами. Такие сатировские драмы, из которых сохранилась лишь одна - «Киклоп» Еврипида, - пользовались большой популярностью вплоть до Александрийской эпохи, хотя о их сюжетах с определенностью может быть сказано очень немногое. Древнеаттическая комедия еще долго находила подражателей; ее жизнь поддерживалась «искусниками Диониса», которые, обосновавшись на острове Теос, повсеместно распространяли «Дионисийские обычаи» - при дворах царей, в военных гарнизонах, во всех городах и поселках.
Наряду с этим все большее значение приобретал фарс, и, если мы вправе - а мы, пожалуй, вправе - верить Полибию (xxxii , 25; ср. Афиней, х, 440), вместе с этими бесчисленными актерами, певцами, танцорами и им подобными повсюду проникали «ионийская распущенность и безнравственность». В эпоху Римской империи по-прежнему исполнялись диалогические партии трагедий и комедий, пока их постепенно не вытеснила пантомима, воздействие которой полностью определялось чувственным очарованием 42 . Посредством непрерывных упражнений и строгого, размеренного образа жизни актеры пантомимы достигали полного владения своим телом и благодаря гибкости членов исполняли каждое движение с совершенным изяществом. Конечно же, на этом поприще подвизались самые красивые и грациозные актеры. «В непристойных сценах, которые придавали пикантность этому виду драмы, обольстительная прелесть в соединении с роскошью и бесстыдством не знали никаких границ. Когда танцевал прекрасный юноша Бафилл, Леда - самая дерзкая из мимических актрис - при виде столь совершенного искусства утонченного обольщения чувствовала себя заурядным неотесанным новичком». (L . Friedlander , Roman Life and Manners , Engl . Transl ., ii , 106).
42 Относительно непрерывной традиции драматических представлений см. Дион Хризостом, XIX , р. 487; Лукиан, De saltat ., 27.
Особенной любовью пользовались представления на мифологические сюжеты; подробное описание такого мифологического балета можно прочесть в «Метаморфозах» Апулея (х, 30-34). На сцене был возведен высокий деревянный макет горы Иды, усаженный кустами и живыми деревьями; с вершины его сбегали вниз ручьи; в зарослях бродили козы, которых пас Парис - прекрасный юноша во фригийском платье. Вот входит прекрасный, как на картине, отрок, который, если не считать короткого плаща на левом плече, полностью обнажен. Ниспадая на плечи, его голову венчают прекрасные волосы, из которых пробиваются два золотых крылышка, повязанные золотой лентой. Это Меркурий; танцуя, он скользит по сцене, вручает золотое яблоко Парису и жестами объявляет ему волю Юпитера, после чего изящно удаляется.
Затем появляется Юнона - прекрасная женщина с диадемой и скипетром; за ней быстро входит Минерва, на ней блистающий шлем, в руке щит, она потрясает копьем. За ней выступает третья. Невыразимая прелесть овевает все ее существо, и цвет любви разлит по ее лицу. Это Венера; безупречная красота ее тела не спрятана завистливо под одеждами, она ступает нагой, и только прозрачная шелковая пелена прикрывает ее наготу. «Дерзкий ветер то приподымал легкую пелену, так что виден был цветок юности, то его теплое дуновение плотно прижимало пелену к телу, и под прозрачным покровом ясно проступали все сладостные формы» [перевод М. А. Кузмина].
Каждая из трех дев, что изображают богинь, шествует со своей свитой. За Юноной следуют Кастор и Поллукс; под прелестные звуки флейт в покойном величии выступает Юнона, благородными жестами обещающая пастуху царскую власть над Азией, если награду за красоту он отдаст ей. Минерву в воинственном наряде сопровождают двое привычных ее спутников и оруженосцев - Страх и Ужас, которые исполняют танец с обнаженными мечами.
Вокруг Венеры порхает толпа Купидонов. Сладко улыбаясь, во всем блеске своей красоты стоит она среди них, радуя взоры зрителей. Можно подумать, что эти кругленькие, молочно-белые, нежные мальчики - настоящие Купидоны; они несут перед богиней зажженные факелы, словно она отправляется на свадебный пир; богиню окружают прелестные Грации и прекрасные Хариты в своей головокружительной наготе. Они проказливо осыпают Венеру букетами и цветами и, воздав почести великой богине чувственности первинами весны, кружатся в искусном танце.
Вот флейты издали сладкие лидийские напевы, и каждое сердце наполняется радостью. Венера - она прелестней любой мелодии, - начинает двигаться. Медленно приподымает она ножку и изящно поводит телом и покачивает головой; каждая из чарующих поз гармонично вторит сладким звукам флейт. Оцепеневший Парис вручает ей яблоко как победную награду.
Юнона и Минерва удаляются со сцены недовольными и разгневанными, а Венера радуется победе, исполняя танец вместе со всею свитой. После этого с самой вершины Иды ударяет высокая струя вина, смешанного с шафраном, и наполняет весь театр сладким благоуханием. Затем гора опускается и исчезает.
О пантомиме и ее излюбленных танцах Лукиан написал весьма примечательное произведение, из которого явствует («О танце», 2 и 5; см. также Либаний, «О танце», 15), что из многочисленных мифологических сюжетов особой популярностью пользовались именно эротические. Конечно, уже и тогда давала знать о себе реакция в лице прячущихся под маской философии педантов, один из которых - некто Краток - произносит в диалоге Лукиана такие речи: «Неужели, Ликин, друг любезный, настоящий мужчина, к тому же не чуждый образования и к философии в известной мере причастный, способен оставить стремление к лучшему и свое общение с древними мудрецами и, наоборот, находить удовольствие, слушая игры на флейте и любуясь на изнеженного человека, который выставляет себя в тонких одеждах и тешится распутными песнями, изображая распутных бабенок, самых что ни на есть в древние времена блудливых - разных Федр, Парфеноп и Родоп, - сопровождая свои действия звучанием струн и напевами, отбивая ногою размер?» И ниже: «Только этого еще недоставало. Чтобы я с моей длинной бородой и седой головой уселся среди всех этих бабенок и обезумевших зрителей и стал вдобавок в ладоши бить и выкрикивать самые неподходящие похвалы какому-то негоднику, ломающемуся без всякой надобности» [перевод Н. Баранова].
Среди упомянутых в данном отрывке из Лукиана сюжетов встречаются также касающиеся инцеста, - например, любовный роман Демофон-та (ошибочно названного у Лукиана Акамантом) и его сестры Филлиды, любовь Федры к ее пасынку Ипполиту или Сциллы к ее отцу Миносу. Конечно же, в Греции не было недостатка в гомосексуальных мотивах. Из сюжетов, связанных с мальчиками и ставившихся в виде балета, Лукиан называет предание об Аполлоне и Гиакинте. Перечисление сцен, разыгрывавшихся пантомимой, занимает у Лукиана несколько страниц; мы видим, что практически все эротические мотивы греческой мифологии (число которых поразительно велико) использовались пантомимой.
Под мифологической оболочкой в театре ставились также любовные сцены с животными. Известнейшая из таких пантомим - «Пасифая» (Лукиан, De saltat ., 49; Светоний, «Нерон», 12; Марциал, «Книга зрелищ», 5; Barens , Poetae Latini Minores , v , p . 108). Как гласит предание, Посидон, гневаясь на то, что его обошли при жертвоприношении, внушил Пасифае - жене критского царя Миноса -- необоримую страсть к быку редкой красоты. На помощь ей пришел знаменитый архитектор Дедал, создавший деревянную корову и прикрывший ее настоящей шкурой. Пасифая спряталась в пустом чреве коровы и таким образом сочеталась с быком, от которого родила Минотавра - знаменитое чудовище, полубыка, получеловека. (Овидий, Ars amatoria , ii , 24: Semibovemque virum semivirumque bovem .)
О том, что такие сцены не были чем-то неслыханным в греческих театрах эпохи империи, свидетельствует тот факт, что мифологический сюжет и аксессуары отбрасывались и на сцене совершались совокупления между человеком и животным in puns naturalibns . Сюжет лукиановского «Лукия, или осла», как известно, заключается в том, что посредством колдовства Лукий превращается в осла, который сохраняет, однако,
разум и чувства человека. В конце приключений человека-осла изложена любовная история знатной дамы из Фессалоник. Лукиан повествует об этой истории довольно подробно; мы можем лишь вкратце изложить эпизод, который сам по себе вполне заслуживает того, чтобы его прочли, и должны отослать любопытного читателя к тексту оригинала. (Asinus , 50 ел.)
Эта знатная и весьма богатая дама прослышала об удивительных способностях осла, в котором, разумеется, никто не видит околдованного человека. Она является на него посмотреть и влюбляется в него. Женщина покупает его и отныне обращается с ним как с любовником. Однако утехи этой удивительной любовной пары не остаются незамеченными, и принимается решение выставить редкое дарование осла на всеобщее обозрение. Перед публикой будет представлено зрелище брачного соития осла с приговоренной к смерти преступницей.
«Наконец, когда настал день, в который господин мой должен был дать городу свой праздник, решили меня привести в театр. Я вошел таким образом: было устроено большое ложе, украшенное индийской черепахой и отделанное золотом; меня уложили на нем и рядом со мной приказали лечь женщине. Потом в таком положении нас поставили на какое-то приспособление и вкатили в театр, поместив на самую середину, а зрители громко закричали, и шум хлопков в ладоши дошел до меня. Перед нами расположили стол, уставленный всем, что бывает у людей на роскошных пирах. При нас состояли красивые рабы-виночерпии и подавали нам вино в золотых сосудах. Мой надзиратель, стоя сзади, приказывал мне обедать, но мне стыдно было лежать в театре и страшно, как бы не выскочил откуда-нибудь медведь или лев.
Между тем проходит кто-то мимо с цветами, и среди прочих цветов я вижу листья свежесорванных роз. Не медля долго, соскочив с ложа, я бросаюсь вперед. Все думают, что я встал, чтобы танцевать, но я перебегаю от одних цветов к другим и обрываю и поедаю розы. Они еще удивляются моему поведению, а уж с меня спала личина скотины и совсем пропала, и вот нет больше прежнего осла, а перед нами стоит голый Лукий, бывший внутри осла».
Не скоро удалось утихомирить обманутую публику. Лукий, радуясь тому, что он вновь стал человеком, считает долгом приличия нанести прощальный визит знатной даме, которая так любила его, когда он был ослом. Она любезно принимает Лукия и приглашает его остаться на ужин.
«Я решил, что с моей стороны самое лучшее пойти к женщине, которая была влюблена в меня, когда я был ослом, полагая, что теперь, став человеком, я ей покажусь еще красивее. Она приняла меня с радостью, очарованная, по-видимому, необычайностью приключения, и просила поужинать и провести ночь с ней. Я согласился, считая достойным порицания после того, как был любим в облике осла, отвергать ее и пренебречь любовницей теперь, когда я стал человеком.
Я поужинал с ней и сильно натерся миррой и увенчал себя милыми розами, спасшими меня и вернувшими к человеческому образу. Уже глубокой ночью, когда нужно было ложиться спать, я поднимаюсь из-
за стола, с гордостью раздеваюсь и стою нагой, надеясь быть еще более привлекательным по сравнению с ослом. Но, как только она увидела, что я во всех отношениях стал человеком, она с презрением плюнула на меня и сказала: «Прочь от меня и из дома моего! Убирайся спать подальше!»
- «В чем я так провинился перед тобой?» - спросил я. «Клянусь Зевсом,
Сказала она, - я любила не тебя, а осла твоего, и с ним, а не с тобой проводила ночи; я думала, что ты сумел спасти и сохранить единственно приятный для меня и великий признак осла. А ты пришел ко мне, превратясь из этого прекрасного и полезного существа в обезьяну!» И тотчас она позвала рабов и приказала им вытащить меня из дома на своих спинах. Так, изгнанный, обнаженный, украшенный цветами и надушенный, я лег спать перед домом ее, обняв голую землю. С рассветом я голым прибежал на корабль и рассказал брату мое смехотворное приключение. Потом, так как со стороны города подул попутный ветер, мы немедленно отплыли, и через несколько дней я прибыл в родной город. Здесь я принес жертвоприношение богам-спасителям и отдал в храм приношения за то, что спасся не «из-под собачьего хвоста», как говорится, а из шкуры осла, попав в нее из-за чрезмерного любопытства, и вернулся домой спустя долгое время и с таким трудом» [перевод Б. Казанского].
2.Трагедия
1) Происхождение и структура аттической трагедии
На празднике «великих Дионисий», учрежденном афинским тираном Писистратом, выступали, помимо лирических хоров с обязателmным в культе Диониса дифирамбом, также и трагические хоры. Античная традиция называет первым трагическим поэтом Афин Феспида и указывает на 534 г. до н. э. как на дату первой постановки трагедии во время «великих Дионисий».
Эта ранняя аттическая трагедия конца VI и начала V вв. еще не была драмой в полном смысле слова. Она являлась одним из ответвлений хоровой лирики, но отличалась двумя существенными особенностями: 1) кроме хора, выступал актер, который делал сообщение хору, обменивался репликами с хором или с его предводителем (корифеем); в то время как хор не покидал места действия, актер уходил, возвращался, делал новые сообщения хору о происходящем за сценой и при надобности мог менять обличие, исполняя в свои различные приходы роли разных лиц; в отличие от вокальных партий хора актер этот, введенный, согласно античной традиции, Феспидом, не пел, а декламировал хореические или ямбические стихи; 2) хор принимал участие в игре, изображая группу лиц, поставленных в сюжетную связь с теми, кого представлял актер. Количественно партии актера были еще очень незначительны, и он, тем не менее, был носителем динамики игры, так как в зависимости от его сообщений менялись лирические настроения хора. Сюжеты брались из мифа, но в отдельных случаях трагедии составлялись и на современные темы; так, после взятия Милета персами в 494 г. «поэт Фриних поставил трагедию «Взятие Милета»; победа над персами при Саламине послужила темой для «Финикиянок» того же Фриниха (476 г.), содержавших прославление афинского вождя Фемистокла. Произведения первых трагиков не сохранились, и характер разработки сюжетов в ранней трагедии в точности не известен; однако уже у Фриниха, а может быть еще и до него, основным содержанием трагедии служило изображение какого-либо «страдания». Начиная с последних лет VI в. за постановкой трагедии следовала «драма сатиров» - комическая пьеса на мифологический сюжет, в которой хор состоял из сатиров. Первым творцом сатировских драм для афинского театра традиция называет Пратина из Флиунта (в северном Пелопоннесе).
Интерес к проблемам «страдания» был порожден религиозными и этическими брожениями VI в., той борьбой, которую складывавшийся рабовладельческий класс города вел, опираясь на крестьянство, против аристократии и ее идеологии Демократическая религия Диониса играла в этой борьбе значительную роль и выдвигалась тиранами (например Писистратом или Клисфеном) в противовес местным аристократическим культам. В орбиту новых проблем не могли не попасть и мифы о героях, принадлежавшие к основным устоям полисной жизни и составлявшие одну из важнейших частей в культурном богатстве греческого народа. При этом переосмыслении греческих мифов на первый план стали выдвигаться уже не эпические «подвиги» и не аристократическая «доблесть», а страдания, «страсти», которые можно было изображать так же, как изображались «страсти» умирающих и воскресающих богов; этим путем можно было сделать миф выразителем нового мироощущения и извлечь из него материал для актуальных в революционную эпоху VI в. проблем «справедливости», «греха» н «воздаяния». Возникшая в ответ на эти запросы трагедия восприняла наиболее близкий к привычным формам хоровой лирики тип изображения «страстей», часто встречающийся и в первобытных обрядах: «страсти» не происходят на глазах у зрителя, о них сообщается через посредство «вестника», а справляющий обрядовое действие коллектив реагирует песней и пляской на эти сообщения. Благодаря введению актера, «вестника», отвечающего на вопросы хора, в хоровую лирику вошел динамический элемент, переходы настроения от радости к печали и обратно - от плача к ликованию.
Очень важные сведения о литературном генезисе аттической трагедии сообщает Аристотель. В 4-й главе его «Поэтики» рассказывается, что трагедия «подверглась многим изменениям», прежде чем приняла свою окончательную форму. На более ранней ступени она имела «сатировский» характер, отличалась несложностью сюжета, шутливым стилем и обилием плясового элемента; серьезным произведением она стала лишь впоследствии. О «сатировском» характере трагедии Аристотель говорит в несколько неопределенных выражениях, но мысль, по-видимому, та, что трагедия некогда имела форму драмы сатиров. Истоками трагедии Аристотель считает импровизации «зачинателей дифирамба».
Сообщения Аристотеля ценны уже потому, что принадлежат очень осведомленному автору, в распоряжении которого был огромный, не дошедший до нас материал. Но они подтверждаются также и показаниями других источников. Есть сведения, что в дифирамбах Ариона (стр. 89) выступали ряженые хоры, по имени которых отдельные дифирамбы получали то или иное название, что в этих дифирамбах, кроме музыкальных частей, имелись и декламационные партии сатиров. Формальные особенности ранней трагедии не представляли, таким образом, абсолютного нововведения и подготовлены были развитием дифирамба, т. е. того жанра хоровой лирики, который непосредственно связан с религией Диониса. Более поздним примером диалога в дифирамбе может служить «Фесей» Вакхилида.
Другим подтверждением указаний Аристотеля является и самое название жанра: «трагедия» (tragoidia). В буквальном переводе оно означает «козлиную песнь» (tragos - «козел», oide - «песнь»). Смысл этого термина был неизвестен уже античным ученым, и они создавали различные фантастические толкования, вроде того, что козел будто бы служил наградой для победившего в состязании хора. В свете сообщений Аристотеля о былом «сатировском» характере трагедии происхождение термина может быть легко объяснено. Дело в том, что в некоторых областях Греции, главным образом в Пелопоннесе, демоны плодородия, в том числе и сатиры, представлялись козлообразными. Иначе в аттическом фольклоре, где пелопоннесским козлам соответствовали конеобразные фигуры (силены); однако и в Афинах театральная маска сатира содержала, наряду с лошадиными чертами (грива, хвост), также и козлиные (бородка, козья шкура), и у аттических драматургов сатиры нередко именуются «козлами». Козлообразные фигуры воплощали сладострастие, их песни и пляски следует представлять себе грубыми и непристойными. На это намекает и Аристотель, когда говорит о шутливом стиле и плясовом характере трагедии на ее «сатировской» стадии. «
Трагические», т. е. ряженые козлами, хоры были связаны и вне культа Диониса с мифологическими фигурами «страстного» типа. Так, в городе Сикионе (северный Пелопоннес) «трагические хоры» прославляли «страсти» местного героя Адраста; в начале VI в. сикионский тиран Клисфен уничтожил культ Адраста и, как говорит историк Геродот, «отдал хоры Дионису». В «трагических хорах» должен был поэтому занимать значительное место элемент заллачки, который был широко использован в позднейшей трагедии. Заплачка, с характерным для нее чередованием причитаний отдельных лиц и хорового плача коллектива, явилась, вероятно, и формальным образцом для частых в трагедии сцен совместного плача актера и хора.
Однако, если аттическая трагедия и развилась на основе фольклорной игры пелопоннесских «козлов» и дифирамба арионовского типа, все же решающим моментом для возникновения ее было перерастание «страстей» в нравственную проблему. Сохраняя в формальном отношении многочисленные следы своего происхождения, трагедия по содержанию и идейному характеру была новым жанром, ставившим вопросы человеческого поведения на примере судьбы мифологических героев. По выражению Аристотеля, трагедия «стала серьезной». Такой же трансформации подвергся и дифирамб, потерявший характер бурной диоиисовской песни и превратившийся в балладу на героические сюжеты; примером могут служить дифирамбы Вакхилида. И в том и в другом случае детали процесса и его отдельные этапы остаются неясными. По-видимому, песни «козлиных хоров» впервые, стали получать литературную обработку в начале VI в. в северном Пелопоннесе (Коринф, Сикион); на рубеже VI и V вв. в Афинах трагедия была уже.произведением на тему о страданиях героев греческого мифа, и хор рядился не в маску «козлов» или сатиров, а в маску лиц, сюжетно связанных с этими героями. Трансформация трагедии происходила не без противодействия сторонников традиционной игры; раздавались жалобы, что на празднестве Диониса исполняются произведения, «не имеющие никакого отношения к Дионису»; новая форма, однако, возобладала. Хор старинного типа и соответственный шутливый характер игры были сохранены (или, быть может, восстановлены через некоторое время) в особой пьесе, которая ставилась вслед за трагедиями и получила название «сатировской драмы». Эта веселая пьеса с неизменно благополучным исходом соответствовала последнему акту обрядового действа, ликованию о воскресшем боге.
Рост социального значения отдельной личности в жизни полиса и повысившийся интерес к ее художественному изображению приводят к тому, что в дальнейшем развитии трагедии роль хора уменьшается, вырастает значение актера и увеличивается число актеров; но остается неизменной самая двусоставность, наличие хоровых партий и партий актера. Она отражается даже на диалектальяой окраске языка трагедии: в то время как трагический хор тяготеет к дорийскому диалекту хоровой лирики, актер произносил свои партии по-аттически, с некоторой примесью ионийского диалекта, являвшегося до этого времени языком всей декламационной греческой поэзии (эпос, ямб). Двусоставностью аттической трагедии определяется и.ее внешняя структура. Если трагедия, как это было обычно впоследствии, начиналась с партий актеров, то эта первая часть, до прихода хора, составляла пролог. Затем следовал парод, прибытие хора; хор вступал с двух сторон в маршевом ритме и исполнял песню. В дальнейшем происходило чередование эписодиев (привхождений, т. е. новых приходов актеров), актерских сцен, и стсимов (стоячих песен), хоровых партий, исполнявшихся обычно, когда актеры удалялись. За последним стасимом шел эксод (выход), заключительная часть, в конце которой и актеры и хор покидали место игры. В эписодиях и эксоде возможен диалог актера с корифеем (предводителем) хора, а также коммос, совместная лирическая партия актера и хора. Эта последняя форма особенно свойственна традиционному плачу трагедии. Партии хора по своей структуре строфичны (стр. 92). Строфе соответствует антистрофа; за ними могут следовать новые строфы и антистрофы иной структуры (схема: аа, вв, сс); эподы встречаются сравнительно редко.
Антрактов в современном смысле слова в аттической трагедии не было. Игра шла непрерывно, и хор почти никогда не покидал места игры во время действия. В этих условиях перемена места действия в середине пьесы или растягивание его на долгий срок создавали резкое нарушение сценической иллюзии. Ранняя трагедия (включая Эсхила) не отличалась в этом отношении большой требовательностью и обращалась довольно свободно как с временем, так и с местом, используя разные части площадки, на которой происходила игра, как разные места действия; впоследствии стало обычным, хотя и не безусловно обязательным, что действие трагедии происходит на одном месте и не превышает своей длительностью одного дня. Эти особенности построения развитой греческой трагедии получили в XVI в. наименование «единства места» и «единства времен и». Поэтика французского классицизма придавала, как известно, очень большое значение «единствам» и возводила их в основной драматургический принцип.
Необходимыми составными частями аттической трагедии являются «страдание», сообщение вестника, плач хора. Катастрофальный конец для нее нисколько не обязателен; многие трагедии имели примирительный исход. Культовый характер игры, вообще говоря, требовал благополучного, радостного конца, но, поскольку этот конец был обеспечен для игры в целом заключительной драмой сатиров, поэт мог избрать тот финал, который находил нужным.