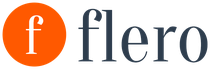«Гнев народа поднялся великим шквалом», «Стереть с лица земли!» и другие удары по Зиновьеву и Каменеву
Подготовила Надежда Бирюкова
21 августа 1936 года в «Правде» было опубликовано открытое письмо советских писателей «Стереть с лица земли!». Написанное в рамках борьбы с группой бывших руководителей партии, главным образом оно было направлено против Григория Зиновьева и Льва Каменева. Письмо подписали 16 известных писателей: Владимир Ставский, Константин Федин, Петр Павленко, Всеволод Вишневский, Александр Афиногенов, Николай Погодин, Леонид Леонов и другие. Среди них стояло имя Бориса Пастернака.
«Пуля врагов народа метила в Сталина. Верный страж социализма — НКВД схватил покушавшихся за руку. Сегодня они — перед судом страны. <...>
Но кто же так нагло покушается на наши судьбы, на душу и мудрость наших народов — на Сталина? Агент фашистской охранки Фриц Давид. На что он способен? Из-за угла убить вождя человечества, чтобы открыть дорогу к власти диверсанту-террористу Троцкому, диверсантам-террористам, лжецам Зиновьеву, Каменеву и их подручным.
Наш суд покажет всему миру, через какие смрадные щели просовывалось жало гестапо, этого услужливого покровителя троцкизма. Троцкизм сделался понятием, однозначным подлости и низкому предательству. Троцкисты стали истинными служителями черного фашизма. <...>
История справедлива. Она отдает социализму лучшие человеческие силы, создавая гениев и народных вождей. Фашизму история оставляет самые низкие отбросы, подобных которым не знал мир. <...>
Гнев народа поднялся великим шквалом. Страна наша полна презрения к подлецам.
Старый мир собирает последние свои резервы, черпая их среди последних предателей и провокаторов мира.
Мы обращаемся с требованием к суду во имя блага человечества применить к врагам народа высшую меру социальной защиты».
Cовременников подпись Пастернака под открытым письмом поразила. Марина Цветаева писала своей чешской подруге, переводчице Анне Тесковой:
«Дорогая Анна Антоновна,
вот Вам — вместо письма — последняя элегия Рильке, которую, кроме Бориса Пастернака, никто не читал. (А Б. П. — плохо читал: разве можно после такой элегии ставить свое имя под прошением о смертной казни (Процесс шестнадцати)?!)»
Обстоятельства, при которых фамилия Пастернака появилась в газете, выясняются из дневника литературного критика Анатолия Тарасенкова:
«Затем наступили события, связанные с процессом троцкистов (Каменев — Зиновьев). По сведениям Ставского, Б. Л. вначале отказался подписать обращение Союза писателей с требованием о расстреле этих бандитов. Затем, под давлением, согласился не вычеркивать свою подпись из уже напечатанного списка. Выступая на активе „Знамени“ 31 августа 1936 года, я резко критиковал Б. Л. за это Отказ от подписи. . Очевидно, ему передал это присутствовавший на собрании Асмус Валентин Асмус, философ и литературовед. . Когда после этого я приехал к Б. Л., холод в наших взаимоотношениях усилился. И хотя
Б. Л. перед наступавшей на меня Зинаидой Николаевной Зинаида Николаевна Нейгауз, жена Пастернака. , которая целиком оправдывала поведение мужа в этом вопросе, даже несколько пытался „оправдать“ мое выступление о нем, видно было, что разрыв уже недалек».Анатолий Тарасенков
Через 20 лет Пастернак вспоминал:
«Именно в 36-м году, когда начались эти страшные процессы (вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35-м году казалось), все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал».
Позорное событие литературной и общественной жизни страны второй половины пятидесятых годов было связано с романом Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В него оказался втянутым и Борис Слуцкий - трехминутное выступление против Пастернака стало трагедией Слуцкого до конца его дней.
Отношение к Б. Л. Пастернаку в советское время всегда было настороженным. Особое беспокойство партийно-литературного руководства в 1946 году вызвал растущий интерес к Пастернаку на Западе, тогда имя поэта впервые было упомянуто среди кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. Пока это еще не было связано с романом: писатель начал работать над ним в конце 1945 года. Скандальный характер события приняли в ноябре 1957 года, после выхода романа в Милане в переводе на итальянский. (В мае - июне следующего года книга вышла во Франции, Англии, США и Германии.) Чашу терпения идеологических бонз переполнило присуждение Борису Леонидовичу Пастернаку Нобелевской премии «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы» (23 октября 1958 года). Ответ Пастернака Нобелевскому комитету: «Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен» - оказался последней каплей.
Пастернак писал роман, не таясь. Готовые главы читал близким людям, посылал отрывки сестрам в Англию (с просьбой никоим образом не публиковать). В январе 1956 года передал рукопись журналу «Новый мир», но вскоре стало ясно, что журнал никогда не опубликует романа. Через полгода Пастернак заключил договор на издание «Доктора Живаго» в Италии с коммунистом-издателем Фельтринелли. Этот шаг поэта стал известен Москве. Неожиданно в январе 1957 года договор на издание «Доктора Живаго» предложил Гослитиздат. Договор был подписан. Обнадеженный возможностью появления романа в России, Пастернак обратился к Фельтринелли с просьбой задержать публикацию до выхода его в Москве.
Создавая роман, Пастернак не собирался в какой-либо мере придать ему антисоветскую направленность. Основная тема романа заявлена как «противопоставление языческого Рима (читай: Сталинской Москвы) - христианству, рабства - свободе, народов и вождей - личности».
Издание романа было связано с риском, и Пастернак понимал это. Еще в 1945 году, задумывая «Доктора Живаго», Пастернак писал: «Я почувствовал, что только мириться с административной росписью сужденного я больше не в состоянии и что сверх покорности (пусть и в смехотворно малых размерах) надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени попробовать выйти на публику».
Отсутствие в романе прямых антисоветских пассажей все же не остановило власти перед тем, чтобы воспрепятствовать его изданию. В ЦК сознавали опасность романа, понимали, насколько несовместимы провозглашенные в нем общечеловеческие ценности с господствующей идеологией: выход романа в свет мог пробить серьезную брешь в плотном идеологическом заборе. Была дана команда ни в коем случае не публиковать роман. Договоры на издание в России оказались фикцией.
В сентябре 1958 года, когда стало известно о возможности присуждения Пастернаку Нобелевской премии, рассматривался план избежать скандала. Предполагалось издать «Доктора Живаго» в Москве малым тиражом с ограниченным сообщением об этом в печати. Но план этот отвергли и предпочли развернуть широкую политическую кампанию дискредитации автора и романа. Было предусмотрено подключение общественности к бездумному шельмованию в духе тридцатых годов. Времени на подготовку и осуществление плана было мало.
На 27 октября было назначено расширенное заседание руководства союзных и московской писательских организаций. 25 октября «Литературка» опубликовала отзыв редакции «Нового мира», послуживший основанием для отказа от издания романа, и редакционную статью «Провокационная вылазка международной реакции». В тот же день в «Правде» появилась злобная статья Д. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка».
В полном согласии с этими статьями намечалось обсуждение вопроса: «О действиях члена СП СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя».
Пастернаку послали приглашение. Больной, он на заседание не поехал, но послал объяснительную записку. Поэт просил товарищей не считать «мое отсутствие знаком невнимания». Он напоминал, что «в истории передачи рукописи нарушена последовательность событий», что роман сначала был отдан в наши издательства в «период общего смягчения литературных условий», когда существовала надежда на публикацию. «На моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России и, следовательно, советскому, оказана вместе с тем и всей советской литературе. Я огорчен, что был так слеп и заблуждался. По поводу существа самой премии ничто не может меня заставить признать эту почесть позором и оказанную мне честь отблагодарить ответной грубостью… Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много!! Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит». Далее Пастернак выражал согласие денежную часть премии внести в фонд Совета Мира, не ехать в Стокгольм за ее получением или вообще оставить ее в распоряжении шведских властей.
Записку Пастернака расценили как «возмутительную наглость и цинизм». Единодушно поддержали постановление президиума о лишении Пастернака звания советского писателя и об исключении его из числа членов Союза писателей. В те же дни в стране проходили митинги и собрания, осуждавшие великого поэта и его роман.
Против кого было направлено все это безумное, позорное действо? Против романа? Нет, о нем забыли, его как бы и не было. Против Нобелевского комитета и премии? Нет: только против самого писателя и его поведения. Его несгибаемость перед властью, его гордая позиция - вот что больше всего не только злило, но и вызывало страх. Боялись заразительного примера недопустимого неподчинения.
Решением об исключении из Союза писателей завершался первый акт трагедии.
На 31 октября было назначено общее собрание московских писателей. По советской традиции решение президиума должны были одобрить все писатели. За два дня до этого на пленуме ЦК комсомола секретарь В. Е. Семичастный (будущий председатель КГБ СССР) сравнил Пастернака со свиньей, которая «никогда не кушает там, где гадит», и пожелал, чтобы отъезд Пастернака за границу освежил воздух.
Мероприятие должно было пройти гладко, без эксцессов. Началась идеологическая обработка будущих участников, и главный упор был сделан на тех, чье участие повысило бы авторитетность собрания. Стали вызывать в ЦК и в парткомы писателей известных, чей творческий авторитет и моральная репутация не были подмочены соглашательством. Сдались Твардовский, С. С. Смирнов, Вера Панова, Николай Чуковский. Другим «известным» (Маркову, С. Михалкову, Прокофьеву, Соболеву, Антонову и многим другим) не пришлось сдаваться: они были «добровольцами».
В числе других вспомнили о Борисе Слуцком. После письма И. Г. Эренбурга в издававшейся миллионным тиражом «Литературке», полемике вокруг этого письма и читательского успеха первой книги «Память», Слуцкий стал заметной фигурой и его имя было на слуху. Биография Слуцкого соответствовала «критериям» - участник Великой Отечественной войны, раненный на фронте, поэт, чьи антисталинские стихи были известны широкому читателю, «человек безупречной этической репутации» (Евг. Евтушенко), писатель, пробившийся в литературу через рогатки цензуры, несмотря на сопротивление именно тех, кто сейчас клеймил «отступничество» Пастернака. В ЦК знали, что «известный советский поэт Слуцкий» слыл в обществе самым значительным антисоветским поэтом. «Разгадка этого парадокса, - пишет Олег Хлебников, - только в том, что, не будучи врагом советской власти и электрификации всей страны, Слуцкий писал и о том и о другом правду - так же как о войне, о довоенном терроре, о сталинизме вообще, о послевоенном государственном антисемитизме…» Много стихов Слуцкого ходило по рукам в списках. Некоторые из них попадали за границу и публиковались в сборниках советской неподцензурной поэзии. Привлечение «советского - антисоветского» поэта рассматривалось как одна из главных задач идеологической подготовки собрания: участие такого человека позволяло руководству говорить: «Видите, против Пастернака выступает не только Софронов, но и Слуцкий».
Слуцкого, члена партии, партком обязал уговорить беспартийного Леонида Мартынова обрушиться на Пастернака. Об этом вспоминает С. Липкин - но из его воспоминаний получается, будто бы Мартынов «уговорил» Слуцкого. «Кандидатура Мартынова, - пишет Семен Липкин, - нравилась парткому потому, что Мартынов был беспартийным, талантливым и негосударственным. Было известно, что Пастернак его ценил. Мартынов нехотя согласился, но за полчаса до начала собрания сказал Слуцкому: “А почему вы не берете слово? Я выступлю только в том случае, если выступите вы”. Растерявшись, Слуцкий повел Мартынова в партком. Секретарь парткома (забыл его фамилию) обратился к Слуцкому: “В самом деле, почему тебе не выступить? Леонид Николаевич прав”. Слуцкий вынужден был согласиться. Все это он мне рассказывал зло, злясь, как я думаю, на себя. Но и я не был расположен к добродушной беседе». Не подвергаем сомнению то, что Слуцкий так именно и говорил С. Липкину, но известным фактам это противоречит. Во всяком случае, не «за полчаса» до начала собрания решал Слуцкий вопрос - выступить или уклониться.
Заинтересованность руководства в привлечении Слуцкого была так же велика, как и понимание того, что «такого» трудно будет уломать. Последовали вызов в ЦК, беседа у Поликарпова, вызовы в партком.
По свидетельству В. Кардина, Слуцкому сказали, что «во исполнение долга коммуниста он обязан заклеймить Пастернака на собрании московских писателей. Таково партийное задание…». Кардин это запомнил со слов Слуцкого.
Слуцкий оказался в партийном капкане, зажатым между долгом и совестью, между обязанностью и честью.
Долг и обязанность, как их тогда понимал поэт, взяли верх. Об этом он писал в стихах:
Музыка далеких сфер, противоречивые профессии. Членом партии, гражданином СССР, подданным поэзии был я. Трудно было быть. Все же был. За страх, за совесть. Кое-что хотелось бы забыть. Кое-что запомнить стоит. Долг, как волк, меня хватал. (Разные долги, несовпадающие.) Я как Волга, в пять морей впадающая, сбился с толку. Высох и устал .
Слуцкий был принципиальным противником предварительной публикации произведений за рубежом: он считал, что писатель обязан печататься на родине. Так думали и его друзья-литераторы. В «Подённых записях» Самойлова за 1960 год (с. 301) есть такая пометка: «Вознесенский сказал мне, что английский журналист Маршак опубликовал в Лондоне мои стихи. Какова мораль западного журналиста! Они не понимают, что мы не желаем ссориться с родиной. Все, что нам не нравится, - внутреннее дело. Никому не дозволено в это вмешиваться!» У Николая Глазкова была целая баллада под названием «Беседа с чертом», в которой черт соблазнял поэта славой и богатством, полученными благодаря зарубежным публикациям. Стихотворение кончалось красноречиво: «Отойди от меня, сатана!» Были и менее строгие суждения. «У нас, - вспоминает Нина Королева, имея в виду своих ленинградских товарищей, - было свое понимание проблемы “поэт и власть”: государство печатает и награждает того, кто прославляет и пропагандирует его и партийную политику… Факт появления “Доктора Живаго” за границей мы считали жестом смелым и вызывающим, на который поэт имеет право, но и государство имеет право его не одобрить. А руководство московской писательской организации мы считали насквозь продавшимся советской власти и партии за блага и подачки».
Самому Слуцкому никогда не приходило в голову передать за границу для опубликования свои «Записки о войне». Эта «деловая проза» - острая правда о войне - пошла бы нарасхват у зарубежных издательств. То же относится и к сотням стихов, лежавших в столе поэта, не имевших шансов быть напечатанными на родине. Стихи Слуцкого печатали за границей, но не по его воле. Сам он свои стихи туда не посылал. «Межиров в самый расцвет застоя, - вспоминает Олег Хлебников, - показал мне вышедшую в Мюнхене антологию советской неподцензурной поэзии, в которой было напечатано много неизвестных тогда российским читателям стихотворений Слуцкого. Но Слуцкий и тут оказался верен себе - он не передавал свои рукописи за границу. Это сделал кто-то из его поклонников: стихи Слуцкого тогда расходились в списках. А немцы поступили корректно по отношению к поэту: напечатали его большую подборку, не указав имени автора. Более того: подборка была разбита на две части и над обеими значилось “Аноним”. Но для тех, кто понимает, “фирменная” узнаваемая интонация Слуцкого говорила об авторстве красноречивее подписи. К счастью, литературоведы в штатском не слишком квалифицированны, а уж к поэзии точно глухи».
Эта принципиальная позиция Слуцкого, несомненно, оказалась той щелочкой, сквозь которую смогли добраться до него и уговорить выступить. Успех «обработчиков» стал возможен также благодаря глубокой партийности Слуцкого. Об этом говорят многие близко знавшие и дружившие с ним.
«Член КПСС Слуцкий, - писал Владимир Корнилов, - долго, почти всю свою жизнь, продолжал верить в партию, вернее, упорно заставлял себя в нее верить…» Верность «строительной программе» и партийный долг, а отнюдь не трусость или конъюнктурные соображения заставили Слуцкого поддаться на уговоры и требования парткома.
Наум Коржавин: «Я… тогда нисколько, ни на одну минуту не усомнился в честности и порядочности Слуцкого и поэтому отнесся к его проступку не с возмущением, а иронически - понимал, что к этому его привел не расчет, а честно и буквально исповедуемый принцип партийности, от следования которому никаких благ он никогда не получал».
B. Кардин: «Обстоятельно рассказывая мне о собрании, Слуцкий не искал оправдания… хотел понять, как с ним стряслось такое. В поисках объяснения он сказал: - Сработал механизм партийной дисциплины…»
C. Апт: «Почему он, поэт, присоединился тогда к хору хулителей? Скорее всего, он сделал это “в порядке партийной дисциплины”, думаю, что ему в ультимативной форме предложили выступить… Думаю, что он и в самом деле был ошеломлен тем, что Пастернак напечатал свой роман за границей… Вполне допускаю, что и в присуждении Пастернаку Нобелевской премии Слуцкий мог увидеть акцию политическую…»
Когда я впервые после случившегося приехал в Москву и встретился с Борисом, я рискнул его спросить. (Мне было тяжело напоминать о случившемся. Вообще, близкие старались не говорить об этой истории, понимая, как он сам трагически переживает ее. Обходили молчанием, не сговариваясь.) Но я не мог не спросить. Не помню точно моего вопроса. В нем не было одобрительного подтекста, но и не начинался он со слов «Как ты мог?».
Борис ссылался на сильный нажим, вызов в ЦК. Он был, что называется, прижат к стенке положением секретаря партбюро (или члена партбюро - не помню точно) поэтической секции московской писательской организации. Положение обязывало. Смысл его оправданий сводился к тому, что ему оставалось только «выступить как можно менее неприлично». Говорил, сколько пережил мучительных часов в поисках формы и содержания своего выступления. Но колебаний «выступить или воздержаться» я в его словах не почувствовал.
Разговор наш он закончил прямо и однозначно: «Отказавшись, я должен был положить партийный билет. После XX съезда я этого не хотел и не мог сделать». Я понял эти слова как выражение поддержки «оттепели»; больше к этой теме мы никогда не возвращались (П. Г.).
Между тем здесь-то и заключалось главное. Борис Пастернак был враг «оттепели»; Борис Слуцкий был ее убежденным певцом.
Пастернак в разговоре с Ольгой Ивинской в 1956 году высказал свое отношение к «оттепели»: «Так долго над нами царствовал безумец и убийца, а теперь - дурак и свинья; убийца имел какие-то порывы, он что-то интуитивно чувствовал, несмотря на свое отчаянное мракобесие; теперь нас захватило царство посредственностей». Старший сын записал реплику Пастернака осенью 1959 года: «Раньше расстреливали, лилась кровь и слезы, но публично снимать штаны было все-таки не принято».
Слуцкий был тем, кому «оттепель» дала голос, да он и сам пытался стать голосом «оттепели». Он сформулировал все те положения, которые в силу многих причин не мог сформулировать Никита Хрущев. «Социализм был выстроен, поселим в нем людей», или «Перекур объявлен у штурмовавших небо», или «Вы решаете судьбу людей? Спрашиваете про детей, узнавайте, нет ли сыновей у негодяя», или…
Эти формулы Слуцкого врезаются в память, и не хуже поэтических афоризмов Пастернака. Порой они даже похожи на пастернаковские - а порой пастернаковские строчки становятся похожи на строчки его антагониста: «История не то, что мы носили, а то, как нас пускали нагишом…» - «Семь с половиной дураков смотрели восемь с половиной!»
Это не удивительно: Пастернак был одним из поэтических учителей Слуцкого - не прямо, как Сельвинский или Брик, но опосредованно, не так явно, как, скажем, Ходасевич, чьи строчки и образы Борис Слуцкий использует в самых неожиданных ситуациях, но… все-таки был. Больше того: в первом зафиксированном высказывании Бориса Слуцкого о поэзии мелькает тень Пастернака - об этом мы уже писали во второй главе.
1937 год. Четверо подростков проводят шуточную анкету. Отвечают на один-единственный вопрос: «Что такое поэзия?» Один из подростков - Борис Слуцкий. Его ответ удивителен и своей оглядкой на Пастернака, и своим бесстрашием для тех лет тотального страха. «Мы были музыкой во льду» - «единственный род музыкальности, караемый Уголовным кодексом (см. 58 ст.)». В этом его ответе сквозили и будущая чрезвычайно короткая военно-юридическая деятельность, и отказ после этого опыта от какой бы то ни было работы, связанной с юриспруденцией в условиях советского строя, и единственная ошибка, которую совершил Слуцкий в условиях этого самого строя.
Давид Самойлов, рассуждая об особенностях мышления своего «друга и соперника», пишет о «неумении предвидеть» Бориса Слуцкого. Замечание на редкость тонкое и точное, но неполное. Можно было бы предположить, что «неумение предвидеть» Бориса Слуцкого связано с его «фактовизмом», с тем, что он «с удовольствием катился к объективизму», - но как тогда связать этот «фактовизм», это «стремление к объективности» с утопизмом Бориса Слуцкого, с его верностью двадцатым годам, тогдашней готовности переделать и перекроить мир?
Скорее всего, дело было в том, что Слуцкий не столько «не умел предвидеть», сколько не хотел - и потому не мог… Борис Слуцкий писал «после будущего», после того, как все, что могло произойти, - произошло:
…Но задача, когда-то поставленная, не решенная, как была, и стоит она старая, старенькая, и действительно плохи дела. Удивительно плохи дела…
По этой причине Борис Слуцкий был поэтом последовательно трагического мировоззрения. В этом его принципиальное отличие от исторического оптимиста Бориса Пастернака.
Один из самых больших парадоксов эпохи - столкновение двух этих поэтов. Как ни удивительно, ницшеанец Борис Пастернак не просто вписывался в советскую идеологическую и эстетическую систему, он был одним из ее создателей, одним из самых талантливых ее творцов, тогда как демократический коммунист, ставший «гнилым либералом», Борис Слуцкий оказался одним из ее разрушителей. Многосотстраничный «Доктор Живаго» жанрово продолжает советское романное многопудье, тогда как «Кельнская яма» и уж тем более «Бог» становятся точкой разрыва традиции.
Типологического сходства с Пастернаком у Бориса Слуцкого не было. Было немало перетолкованных, переиначенных цитат - например, «День был душный, а тон был пошлый». Не было типологического сходства, но была отталкиваемая генеалогия. Полное, принципиальное, идейное несоответствие наложилось на ту игру, которую затеяли власти с интеллигенцией. Повторимся: если бы Пастернака спросили, готов ли он каким-либо смелым поступком разоблачить гнилостный обман «оттепели», обозначить те границы, за которые она не шагнет, он бы ответил: Да, готов… Если бы Слуцкого спросили, готов ли он сколь возможно расширить «оттепельные» границы, он бы ответил… Понятно, что бы он ответил.
При общем несходстве было в этих поэтах нечто общее, причем проявлялось оно в различии. И то и другое ярче всего проявлялось в том, как они читали стихи: так же, как и разговаривали в жизни. А дальше начиналось различие, потому что Пастернак разговаривал так же, как читал стихи. Слуцкий же читал стихи так же, как разговаривал: спокойно, деловито, сухо. Докладывал обстановку: «Человек на развилке путей / прикрывает глаза газетой, / но куда он свернет, / напечатано в этой газете. // (…) На развилке пред ним два пути, / но куда ему все же идти, / напечатано в этой газете». Эти стихи, впрочем, иначе как деловым и спокойным тоном и не прочитаешь. Интонация бытовой беседы у Пастернака была одической, пиитической, поэтической. Стиховая, поэтическая интонация у Слуцкого была интонацией бытовой, деловой беседы, даже если речь шла о чем-то невыносимом, ужасном: «Нас было семьдесят тысяч пленных в большом овраге с крутыми краями…»
Думал ли Слуцкий о последствиях своего выступления, о том, как отнесутся к этому товарищи, о своей репутации, о себе, о Тане? Не мог не думать. Понимал ли, что один только факт появления на трибуне позорного судилища надломит, перекорежит всю жизнь? Конечно понимал. Но, принимая решение, он посчитал правильным поступиться личным интересом для общественной пользы, как он ее (пользу) понимал.
«Кто из нас, людей фронтового поколения, - писал В. Кардин, - прожил безгрешно? История Слуцкого особая. Он признавал свою вину… за “ошибочки”, ведшие к общим бедам. Пусть они совершались помимо него, пусть партия не спешила брать на себя ответственность за них. По собственной воле, по велению совести он принял на свои плечи непомерный груз, который норовил отпихнуть от себя едва не каждый».
«Чем упрямее Слуцкий намеревался следовать тому, чему присягнул, во что хотел, вопреки многому, верить, тем очевиднее проступала общая драма обманутых и обманывающихся людей, общая, всех нивелирующая, такая, при которой индивидуальный и недюжинный ум излишен» (Ст. Рассадин).
«Видимо, после пастернаковской истории, - пишет Вл. Корнилов, - Слуцкий написал:
Уменья нет сослаться на болезнь, Таланту нет не оказаться дома. Приходится, перекрестившись, лезть В такую грязь, где не бывать другому.
Как ни посмотришь, сказано умно, Ошибок мало, а достоинств много. А с точки зренья Господа-то Бога? Господь, он скажет все равно - говно.
Господь не любит умных и ученых, Предпочитает тихих дураков, Не уважает новообращенных И с любопытством чтит еретиков.
Это стихотворение напоминает строки Багрицкого:
Неудобно коммунисту Бегать как борзая…»
Здесь сыграло искреннее, хотя и ошибочное, убеждение Слуцкого в возможности либерализации общественной жизни, в необходимости поддержать и не дать увянуть первым росткам свободы. Поступок Пастернака казался ему провокацией, после которой может начаться «завинчивание гаек». Он посчитал, что отказ от выступления, уклонение от выполнения партийного задания объективно навредит «оттепели». Он думал, что ему удастся перевести обсуждение поступка Пастернака в осуждение Нобелевского комитета.
Мне приходилось неоднократно быть свидетелем жарких споров на эти темы между Слуцким и Самойловым. Самойлов считал XX съезд и последовавшее за ним известное постановление ЦК 1956 года высшей точкой «синусоиды», допускал возможность нисходящих и новых восходящих ветвей развития, понимал временный, преходящий характер «оттепели». Слуцкий был убежден и настаивал на том, что теперь развитие пойдет по «прямой» вверх. Я в своих оценках колебался между мнениями своих друзей: хотелось, чтобы все сложилось «по Слуцкому», но не верилось «по-самойловски». Стоит ли говорить, что жизнь подтвердила правоту Самойлова и заблуждение Бориса? Не в этом ли заблуждении причина трагедии Слуцкого? Не это ли объясняет (но не оправдывает) мотивы, приведшие Бориса Слуцкого на трибуну печально известного собрания московской писательской организации, подвергшего избиению Бориса Пастернака? (П. Г.)
За сутки до собрания Пастернак отказался от премии. В телеграмме в Стокгольм он писал: «В связи со значением, которое Вашей награде придает то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу Вас не принять с обидой мой добровольный отказ». В этом не было ни малодушия, ни тем более трусости. Он боялся, но не за себя: его глубоко беспокоила судьба близких.
Но запущенный механизм травли не мог остановиться. Как бы то ни было, 31 октября собрание состоялось, и Борис Слуцкий на нем выступил.
О собрании написано немало. Приведем лишь впечатление присутствовавшего на собрании А. Мацкина:
«Удивительная была аудитория - все дурные инстинкты, внушенные сталинской деспотией, обнаружили себя в этой вакханалии…
Хотя это был конец 50-х годов, расправа шла по ритуалу процессов 30-х. Ораторы, сменяя друг друга, неистовствовали, и каждый старался превзойти другого в своем трибунальстве.
И вдруг в эту оргию включаются два достойнейших поэта - Слуцкий и Мартынов…»
Изданный позднее стенографический отчет позволяет представить, насколько «дурные инстинкты, внушенные сталинской деспотией» господствовали на собрании, сравнить выступление Слуцкого с другими выступлениями и убедиться, насколько удалось Слуцкому реализовать свой замысел «выступить как можно менее неприлично». Почти все выступавшие солидаризировались с комсомольским вожаком Семичастным, назвавшим Пастернака «свиньей, которая гадит там, где ест». С. С. Смирнов: «…я как-то невольно согласился со словами товарища Семичастного… Может быть, это были несколько грубоватые слова и сравнение со свинством, но по существу это действительно так…» В. Перцов «Товарищ Семичастный прав… Пастернак не только вымышленная в художественном отношении фигура, но это и подлая фигура… Пусть туда уезжает… надо просить, чтобы он не попал в предстоящую перепись населения». А. Софронов: «…я слышал речь Семичастного о Пастернаке. У нас двух мнений по поводу Пастернака быть не может… Вон из нашей страны». Л. Ошанин: «…не надо нам такого человека, такого члена ССП. Не надо нам такого советского гражданина». К. Зелинский: «Это человек, который держит нож за пазухой… Враг, причем очень опасный, извилистый, очень тонкий враг… Иди и получай свои 30 сребреников! Ты нам сегодня здесь не нужен». А. Безыменский: «Решение, которое принято об исключении из Союза, правильно, но это решение должно быть дополнено. Русский народ правильно говорит: “Дурную траву вон с поля”… Его уход от нашей среды освежил бы воздух». В. Солоухин: «…поскольку он является эмигрантом внутренним, то не стоит ли ему стать эмигрантом на самом деле». И все в таком духе… Только в выступлении Валерии Герасимовой не было ни слова об исключении и изгнании.
Выступление С. С. Смирнова заняло одиннадцать страниц отчета, выступления других писателей от двух до пяти страниц. Выступление Слуцкого заняло 18 строк (!). «Гнев» Слуцкого обрушился не на казнимого поэта, а на «господ шведских академиков». Приведем выступление Слуцкого полностью.
«Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт должен искать славы на родной земле, а не у заморского дяди. Господа шведские академики знают о Советской земле только то, что там произошла ненавистная им Полтавская битва и еще более ненавистная им Октябрьская революция (в зале шум). Что им наша литература? За год до смерти Льва Николаевича Толстого Нобелевская премия присуждалась десятый раз. Десять раз подряд шведские академики не заметили гения автора “Анны Карениной”. Такова справедливость и такова компетентность шведских литературных судей! Вот у кого Пастернак принимает награду и вот у кого ищет поддержки!
Все, что делаем мы, писатели самых разных направлений, прямо и откровенно направлено на торжество идей коммунизма во всем мире. Лауреат Нобелевской премии этого года почти официально именуется лауреатом Нобелевской премии против коммунизма. Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле».
В очень коротком выступлении Слуцкого (самом коротком из всех прозвучавших на собрании) нет ни единого слова об исключении Пастернака из Союза писателей, нет требований изгнать Пастернака из страны. Начисто лишено выступление Слуцкого и отрицательных высказываний о художественных достоинствах поэзии Бориса Пастернака. Он не говорил о поэте, хотя его отношение к Пастернаку-поэту к тому времени изменилось по сравнению с его ранними взглядами. Приводимые на этот счет в воспоминаниях Давида Самойлова резкие высказывания Слуцкого должны быть отнесены, с одной стороны, на счет нервного напряжения, в котором находился Слуцкий, споря со своим другом о Пастернаке после выступления, с другой - с идейной, идеологической позицией самого Самойлова. Вот что писал Давид Самойлов: «Слуцкий тогда составил иерархический список наличной поэзии. Справедливости ради следует сказать, что себе он отводил второе место. Мартынов - № 1… В списочном составе литературного ренессанса не было места для Пастернака и Ахматовой. Слуцкий тогда всерьез мне говорил, что Мартынов - явление поважнее и поэт поталантливее. Субординация подвела. «История с “Доктором Живаго” и с Нобелевской премией потребовала от Слуцкого и Мартынова ясного ответа - встать ли на защиту Пастернака и тем раздражить власть и повредить ренессансу, либо защищать ренессанс…
Свой ренессанс оказался ближе к телу» .
Самойлов далее вспоминает, что ему «тогда логика этого поступка казалась убедительней, чем сейчас… Выступления официальных радикалов (Слуцкий, Мартынов) оказались неожиданными и показались непростительными. Объективно они не так виноваты, как это кажется. Люди - схемы, несколько отличающейся от официальной, но тем не менее - люди схемы, они в своей расстановке сил современной литературы, в ее субординационных реестрах не нашли места для Пастернака и Ахматовой. А намерения у них были самые лучшие. Пастернак и Ахматова казались вчерашним днем литературы. Ренессанс сулил будущее. Стоило отказаться от прошлого во имя будущего. Нужно было “не пугать власти” радикализмом, а искать примирительных позиций, не размежевываться, а объединяться во имя спасения нового ренессанса. Идея эта жалкая, многократно использованная всеми видами конформистов и всегда приводившая литературу к потере нравственного авторитета и к новым зажимам».
Отношение к выступлению Бориса Слуцкого занимает видное место в воспоминаниях о нем. Большинство простило его, но никто не забыл. Когда собиралась книга воспоминаний о Слуцком, составителя упрекали за то, что в книге излишне много «этого». Но составитель бессилен «вырубить топором то, что написано пером», как бы ни был ему близок и дорог Слуцкий.
«Из всей биографии Слуцкого, - пишет Алексей Симонов, - в благодарной памяти современников больше всего запечатлелся факт его участия в знаменитом “толковище” по осуждению Пастернака…
Почему всем забыли, а ему - не забыли?
Говорят, мы живем в жестокий век. Лично я не согласен. Не знаю, как век целиком, а вторая его половина - о которой я могу судить как участник, - начинающаяся со смерти Сталина, представляется мне периодом всепрощения со все уменьшающимся расстоянием между преступлением и отсутствием наказания… Возвращаясь к Слуцкому, тем я и объясняю феномен избирательности нашей памяти по отношению к нему, что он испытывал муки совести там, где остальные давно и безнадежно себя простили…
Если есть разгадка “феномена” Слуцкого, то она лежит… в редко цитируемой строфе:
И если в прах рассыпалась скала, вину и на себя я принимаю» .
Приведем еще несколько наиболее значимых воспоминаний.
Семен Липкин: «Через несколько дней после выступления Слуцкий ко мне пришел без предварительного звонка. Он был небрит, его обычное бесстрастное, командирское лицо налилось краской… я не был расположен к добродушной беседе:
Боря, вы понимаете, что никакое собрание не может исключить из русской литературы великого поэта. Вы, умный человек, совершили поступок не только дурной, но и бессмысленный.
Слуцкий беспомощно возразил:
Я не считаю Пастернака великим поэтом. Я не люблю его стихи.
А стихи Софронова вы обожаете? Почему же вы не потребовали исключения Софронова?
Но ведь он уголовник, руки его в крови. И этого бездарного виршеплета вы оставляете в Союзе писателей, а Пастернака изгоняете.
… Когда Слуцкий тяжело заболел, я почувствовал, что не должен был с ним так разговаривать.
… Мы встретились после похорон Пастернака. Слуцкий нервно стал расспрашивать меня о похоронах… Слуцкий вбирал в себя каждое слово. Мне стало его жаль».
Давид Самойлов: «Я о предстоящем выступлении не знал. Он со мной не советовался. После отвратительного собрания… Слуцкий, взволнованный, пришел ко мне. Принес свою речь, напечатанную на машинке. Я прочитал. И, каюсь, не ужаснулся. Так еще действовала на меня логика Слуцкого, его как бы историческая, тактическая правота.
Слуцкий сам ужаснулся, но позже, когда окончательно обрисовались границы хилого ренессанса. Он раскаялся в своем поступке. И внутренне давно за него расплатился.
Поминают Слуцкому его выступление люди вроде Евтушенко и Межирова, которые никогда не были выше его нравственно, разве что оглядчивей. Почему по поводу исключения Пастернака чаще всего вспоминают Слуцкого, совсем не поминая Мартынова и вскользь Смирнова?
Со Слуцкого спрос больший».
Нина Королева: «Конечно, нам было жаль, что Слуцкий, как и Леонид Мартынов, выступил с осуждением Пастернака, но мы ведь не знали, как и почему это произошло, насколько в этом была его добрая воля… За дорогого поэта было больно».
Д. Шраер-Петров: «Скандально обвиняют теперь друг друга писатели в предательстве Пастернака. Как найти разницу между тем, кто голосовал против опального поэта, требовал его распятия или заперся в туалете во время прений? Я предпочитал не верить. Такой человек не мог!»
Соломон Апт: «Кто хоть сколько-нибудь знал Слуцкого, тот не сомневается, что он мучился своей виной безысходно и, в отличие от некоторых других тогдашних ораторов, не успокаивал себя впоследствии ссылкой на то, что такое уж, мол, время было такое».
Владимир Огнев: «Тогда я был поражен неожиданностью поступка Бориса. Теперь я жалею Слуцкого и смущен эффектной жестокостью Евтушенко, подавшего на моих глазах “тридцать сребреников” - две пятнашки за его выступление против Пастернака».
Евгений Евтушенко: «Он сам о себе пророчески написал: “Ангельским, а не автомобильным сшибло, видимо, меня крылом”. Человек этически безукоризненный, он допустил, насколько я знаю, только одну-единственную ошибку, постоянно мучившую его.
Мало ли людей совершают ошибки, а вот мучаются далеко не все. Уровень мук совести - это уровень самой совести. Ошибка, мучившая его, состояла в том, что однажды он выступил против Пастернака. Слуцкий сполна расплатился за это, - но не только своими муками, а не совершением других подобных ошибок. Я, воспитанный и его поэзией, и им самим, столько раз пригретый, накормленный, снабженный деньгами, которые у него всегда находились для других, оказался по-мальчишески жесток к нему; и на некоторое время наша, почти ежедневная, дружба прервалась. Я забыл о том, что он смертен.
Прав ли был Слуцкий, когда он писал: “Грехи прощают за стихи. Грехи большие - за стихи большие”, я не знаю, но его мольба, обращенная к потомку: “Ударь, но не забудь. Убей, но не забудь”, пронзает своим предсмертным мужеством самоосуждения».
Галина Медведева: «…трудно понималась роковая ошибка Слуцкого, так смазавшая и надломившая блестящее начало пути. Честолюбивое желание стать в первые ряды чуть вольнее вздохнувшей литературы, вполне законное, но если бы без человеческих жертв… За то, что Слуцкий сам себя казнил, ему простилось. Даже неподкупная Л. К. Чуковская говорила о его раскаянии сочувственно и мягко. Но как по-человечески жаль этой горестной муки, этой пытки совестью…»
Несмотря на отказ от премии, Пастернак, по-разному оцененный в обществе и литературных кругах, вел себя мужественно и удивительно спокойно. По свидетельству близких, Борис Леонидович в самые тягостные и мрачные октябрьские дни 1958 года работал за столом, переводил «Марию Стюарт». Но «эпопея» не могла не отразиться на здоровье. Менее чем через два года после травли и вынужденного отказа от премии, 30 мая 1960 года Борис Леонидович Пастернак скончался. Ему было семьдесят лет. Он уходил из жизни так же мужественно, как и жил. Похороны Пастернака оказались первой публичной демонстрацией набиравшей силу демократической литературы.
Слуцкий в годы, последовавшие после 1958-го, думал о московском писательском собрании и о своем выступлении, писал стихи, которые становятся более понятны, коль скоро они воспринимаются на фоне пастернаковской истории.
Бьют себя мечами короткими, проявляя покорность судьбе, не прощают, что были робкими, никому. Даже себе.
Где-то струсил. И этот случай, как его там ни назови, солью самою злой, колючей оседает в моей крови.
Солит мысли мои и поступки, вместе, рядом ест и пьет, и подрагивает, и постукивает, и покоя мне не дает.
Жизнь, хотя и окрашенная мрачными воспоминаниями, продолжалась. «Он освобождался, он выжигал в себе раба предвзятых истин, кабинетных схем, бездушных теорий. В его творчестве конца 60–70-х годов нам явлен благой и строгий пример возвращения от человека сугубо идеологического к человеку естественному, пример содрания с себя ветхих одежд, пример восстановления доверия к живой жизни с ее истинными, а не фантомными основаниями. “Политическая трескотня не доходит до меня”, - писал теперь один из самых политических русских поэтов. От нервного пулеметного треска политики он уходил к спокойному и чистому голосу правды - и она откликалась в нем строками прекрасных стихов» (Ю. Болдырев).
Записка Отдела культуры ЦК
КПСС об итогах обсуждения на собраниях писателей вопроса «О действиях члена
Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, несовместимых со званием советского
писателя»
Борис Пастернак.
ЦК КПСС
Докладываю о собрании партийной группы Правления Союза писателей СССР и совместном заседании Президиума Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, Президиума Правления Московского отделения Союза писателей, состоявшихся 25 и 27 октября сего года.
На этих заседаниях был обсужден вопрос «О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, несовместимых со званием советского писателя».
В обсуждении вопроса приняло участие 30 человек. Все выступавшие в прениях товарищи с чувством гнева и негодования осудили предательское поведение Пастернака, пошедшего на то, чтобы стать орудием международной реакции в ее провокациях, направленных на разжигание холодной войны.
Единодушное мнение всех выступавших сводилось к тому, что Пастернаку не может быть места в рядах советских писателей. Однако в ходе прений некоторые товарищи высказывали мнение о том, что Пастернака не следует исключать из членов Союза писателей немедленно, так как это будет использовано международной реакцией в ее враждебной работе против нас. Эту точку зрения особенно активно отстаивал тов. Грибачев. 1 Он говорил о том, что исключению Пастернака из Союза писателей должно предшествовать широкое выступление советской общественности на страницах печати. Решение Союза писателей об исключении Пастернака из своих рядов должно явиться выполнением воли народа. Позиция тов. Грибачева была поддержана писателями Л. Ошаниным, М. Шагинян, С. Михалковым, А. Яшиным, С. Сартаковым, И. Анисимовым, С. Герасимовым 2 и некоторыми другими. С.А. Герасимов заявил, что «надо дать просто выход народному мнению на страницах широкой печати». В выступлениях тт. Грибачева и Михалкова была высказана мысль о высылке Пастернака из страны. Их поддержала М. Шагинян.
Многие выступавшие в прениях товарищи резко критиковали Секретариат Правления Союза писателей и, в частности, тов. Суркова за то, что Секретариат не исключил Пастернака из Союза тогда, когда стало известно о передаче им своего клеветнического сочинения буржуазному издателю, – особенно за то, что не было в свое время опубликовано в советской печати письмо членов редколлегии журнала «Новый мир» Пастернаку.
Участниками прений указывалось, что Секретариат Союза писателей, не опубликовав ранее письма, поставил сейчас Союз в более затруднительное положение. Будь это письмо опубликовано полтора года тому назад, говорил т. Грибачев, «не было бы у Пастернака Нобелевской премии, так как прогрессивная пресса мира все сделала бы, чтобы не допустить этого». Это мнение т. Грибачева разделяли в своих выступлениях тт. Кожевников, Софронов, Кочетов, Караваева, Анисимов, Ермилов, Лесючевский, Турсун-заде. 3
Писатели А. Софронов и В. Ермилов остро ставили вопрос о запущенности идейной работы в Союзе писателей. Вопросы идейной жизни Союза писателей, отмечал А. Софронов, за последние годы не стояли в центре внимания всего Союза. Наряду с правильной и обоснованной критикой недостатков в работе Секретариата Правления Союза писателей и его первого секретаря тов. Суркова в выступлениях тт. Грибачева, Софронова и отчасти тов. Кочетова была сделана попытка представить дело так, что чуть ли не вся деятельность Секретариата Правления была компромиссом в литературной политике, отступлением от принципиальной линии. По отношению к Пастернаку Секретариат проявлял либерализм, говорил А. Софронов, и в то же время тов. Сурков всячески унижал первого писателя мира тов. Шолохова. Моя реплика о том, что нельзя говорить о литературной политике как политике компромисса, не встретила поддержки.
В результате широкого обмена мнениями партийная группа приняла единодушное решение вынести на обсуждение Президиума Правления Союза писателей резолюцию об исключении Пастернака из членов Союза писателей СССР.
27 октября состоялось совместное заседание Президиума Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и Президиума Правления Московского отделения Союза писателей, обсудившее вопрос о поведении Пастернака, несовместимом со званием советского писателя.
На заседании присутствовало 42 писателя – члена Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, Президиума Правления Московского отделения Союза писателей и 19 членов Правления Союза писателей СССР и ревизионной комиссии. Не приехали на заседание 26 писателей. Из числа не приехавших на заседание не были по болезни тт. Корнейчук, Твардовский, Шолохов, Лавренев, Гладков, Маршак, Тычина, 4 находятся в заграничной командировке тт. Бажан, Эренбург, Чаковский, 5 на лечении в санатории – тт. Сурков, Исаковский, 6 по занятости служебными делами т. Лацис; 7 без указания причин тт. Леонов и Погодин. 8 Не пришел также сказавшийся больным личный друг Пастернака писатель Всеволод Иванов. Сам Пастернак на заседание не явился, сославшись на болезнь. Он прислал в Президиум Союза советских писателей письмо, возмутительное по наглости и цинизму. В письме Пастернак захлебывается от восторга по случаю присуждения ему премии и выступает с грязной клеветой на нашу действительность, с гнусными обвинениями по адресу советских писателей. Это письмо было зачитано на заседании и встречено присутствующими с гневом и возмущением.
Председательствовал на заседании тов. Тихонов Н.С.; 9 с сообщением выступил тов. Марков Г.М.
На заседании выступило 29 писателей. В числе выступавших – видные беспартийные писатели тт. Тихонов Н.С., Соболев Л.С., Николаева Г.Е., Панова В.Ф., Ажаев В.Н., Чуковский Н.К., Антонов С.П. 10 Выступавшие в прениях при полной поддержке и одобрении всех участников заседания разоблачали и гневно осуждали предательское поведение Пастернака. Они характеризовали Пастернака как порвавшего с народом и страной перебежчика в лагерь врага. Говоря о морально-политическом падении Пастернака, его клеветническом сочинении, беспартийный писатель В. Ажаев заявил: «Мы с гневом и презрением осуждаем это враждебное нашему социалистическому делу и художественно убогое, копеечное сочинение. Мы осуждаем не совместимые со званием советского писателя поступки Пастернака, отдавшего свое злобное сочинение в чужие руки и ныне готового вприпрыжку бежать за „наградой“. Поступки эти окончательно изобличают в нем человека, которому чуждо все то, что бесконечно дорого каждому советскому человеку».
Беспартийная писательница Г. Николаева, характеризуя предательские действия Пастернака, заявила: «Я считаю, что перед нами – власовец». Касаясь вопроса о мерах по отношению к Пастернаку, она сказала: «Для меня мало исключить его из Союза – этот человек не должен жить на советской земле».
В очень резких тонах говорил беспартийный писатель Н. Чуковский о враждебной сущности Пастернака, о его провокационных поступках: «Во всей этой подлой истории, – сказал Н. Чуковский, – есть все-таки одна хорошая сторона – он сорвал с себя забрало и открыто признал себя нашим врагом. Так поступим же с ним так, как мы поступаем с врагами».
Писательница Вера Панова такими словами определила свое отношение к Пастернаку: «В этой озлобленной душе, которая раскрывалась во всем этом деле начиная с написания романа и кончая письмом, – нет ни чувства родной почвы, ни чувства товарищества, кроме безмерного эгоизма, неприемлемого в нашей стране, кроме невыносимой гордыни, неприемлемой в коллективистском обществе. Видеть это отторжение от Родины и озлобление даже жутко».
По поводу письма Пастернака армянский писатель Н. Зарьян 11 сказал так: «Уже это письмо – антисоветское враждебное письмо. И на основе этого письма необходимо было бы человека исключить из Союза писателей. Этим письмом Пастернак ставит себя вне советской литературы, вне советского общества».
На этом заседании, как и на собрании партийной группы, в выступлениях С. Михалкова и Ю. Смолича 12 были высказаны острые критические замечания по адресу Секретариата Правления Союза писателей за то, что до сих пор не было опубликовано письмо членов редколлегии журнала «Новый мир» Пастернаку и последний оставался в рядах Союза писателей.
Обращает на себя внимание тот факт, что лишь в отдельных выступлениях указывалось на то, что в течение длительного времени некоторые писатели всячески превозносили значение Пастернака в советской поэзии. Присутствовавший на заседании поэт С.И. Кирсанов, 13 в свое время превозносивший Пастернака, не высказал своего отношения к обсуждавшемуся на заседании вопросу.
Присутствовавшие на заседании писатели единодушно приняли решение об исключении Пастернака из членов Союза советских писателей.
В решении по этому вопросу говорится: «Учитывая политическое и моральное падение Б. Пастернака, его предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания войны, Президиум Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и Президиум Правления Московского отделения Союза писателей РСФСР лишают Б. Пастернака звания советского писателя, исключают его из числа членов Союза писателей СССР. 14
Зав. Отделом культуры ЦК КПСС
Д. Поликарпов
К документу приложена записка: «Разослать членам Президиума ЦК КПСС и
кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС. 27.X.58. В. Малин».
АП РФ. Ф. З. Оп. 34. Д. 269. Л. 53–57. Подлинник.
Опубл.: Континент. 1995. № 1. С. 198–202.
Примечания:
1. Грибачев Н.М. (1910-1992) - поэт, общественный деятель. Главный редактор журнала «Советский Союз», секретарь Правления Союза писателей СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1949), Ленинской премии (1960).
2. Анисимов И.И. (1899-1966) - литературовед, член-корреспондент АН СССР. Автор трудов по классической и современной зарубежной литературе. Лауреат Государственной премии СССР (1978). В 1952-1966 гг. директор Института мировой литературы; Михалков С.В. (р. 1913) - писатель и общественный деятель. В 1970-1990 гг. председатель Правления Союза писателей РСФСР. Герой социалистического труда. Академик Академии педагогических наук СССР, лауреат Ленинской премии(1970) и Государственных премий СССР (1941, 1950); Сартаков С.В. (р. 1908) - писатель; Ошанин Л.И. (1912-1996) - поэт, автор популярных песен; Шагинян М.С. (1888-1982) - писатель, чл.-корр. АН Армянской ССР. Герой социалистического труда.
3. Ермилов В.В. (1904-1965) - критик и литературовед, лауреат Государственной премии СССР (1950); Караваева А.А. (1893-1979) - писательница, лауреат Государственной премии СССР (1951); Кожевников В.М. (1909-1984) - писатель, общественный деятель, главный редактор журнала «Знамя» (1949-1984), Герой социалистического труда; Кочетов В.А. (1912-1973) - писатель. В 1953-1955 гг. секретарь Ленинградского отделения Союза писателей СССР. В 1955-1959 гг. главный редактор «Литературной газеты». В 1961-1973 гг. главный редактор журнала «Октябрь»; Лесючевский Н.В. (1908-1978) - публицист, в 1951-1957 гг. первый зам. председателя правления издательства «Советский писатель», в 1958-1964 гг. председатель правления, с 1964 г. директор издательства «Советский писатель»; Софронов А.В. (1911-1990) - писатель, драматург. В 1953-1986 гг. главный редактор журнала «Огонек», лауреат Государственных премий СССР (1948, 1949); Турсун-заде Мирзо (1911-1977) - таджикский поэт, общественный деятель. Академик АН Таджикской ССР. Герой социалистического труда.
4. Гладков Ф.В. (1883-1958) - писатель. Лауреат Государственных премий СССР (1950, 1951); Корнейчук А.Е. (1905-1972) - украинский драматург, государственный и общественный деятель. В 1938-1941, 1946-1953 гг. председатель Союза писателей Украины, в 1953-1954 гг. зам. председателя СМ Украинской ССР. Член ЦК КПСС с 1952 г. Академик АН СССР (1943). Герой социалистического труда (1967), лауреат Международной Ленинской премии (1960); Маршак С.Я. (1887-1964) - поэт, переводчик, драматург. Лауреат Ленинской премии (1963); Тычина П.Г. (1891-1967) - поэт, переводчик, государственный деятель. Академик АН УССР. Герой социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР (1941).
5. Бажан Микола (Николай Платонович) (1903-1983) - украинский поэт, общественный деятель, академик АН УССР. Герой социалистического труда. Лауреат Ленинский премии (1982), Государственной премии СССР (1946, 1949); Эренбург И.Г. (1891-1967) - писатель, публицист, общественный деятель, вице-президент Всемирного совета мира. Лауреат Государственных премий СССР (1942, 1948), Международной Ленинской премии (1952); Чаковский А.Б. (р. 1913) - писатель, журналист, общественный деятель. Герой социалистического труда. (1973), главный редактор журнала «Иностранная литература» (1955-1963), главный редактор «Литературной газеты» (с 1962). Лауреат Государственных премий СССР (1950, 1983), Ленинской премии (1978). Кандидат в члены ЦК КПСС с 1971 г., член ЦК КПСС с 1986 г.
6. Исаковский М.В. (1900-1973) - поэт. Герой социалистического труда (1970).
7. Лацис В. Т. (1904-1966) - латвийский писатель, государственный деятель. Председатель СНК, СМ Латвийской ССР (1940-1946, 1946-1959). Лауреат Государственных премий СССР (1949, 1952). Кандидат в члены ЦК КПСС (с 1952).
8. Леонов Л.М. (1899-1994) - писатель, академик АН СССР (1972), Герой социалистического труда (1967), лауреат Государственной премии (1977); Погодин Н.Ф.(1900-1962) - драматург, лауреат Ленинской премии (1959).
9. Тихонов Н.С. (1896-1979) - писатель, общественный деятель, председатель Советского комитета защиты мира (1949 - 1979), секретарь ССП СССР, Герой социалистического труда (1967), лауреат Международной Ленинской премии (1957), Государственных премий СССР (1949, 1951, 1952).
10. Ажаев В.Н. (1915-1968) - писатель. Лауреат Государственной премии СССР (1949); Антонов С.П. (р. 1915) - писатель. Лауреат Государственной премии СССР (1951); Николаева Г.Е. (1911-1963) - писательница; Панова В.Ф. (1905-1973) - писательница. Лауреат Государственных премий СССР (1947, 1948, 1950); Соболев Л.С. (1898-1971) - писатель, государственный деятель. Член Президиума ВС СССР (с 1970). Герой социалистического труда (1969); Чуковский Н.К. (1904-1965) - писатель.
11. Зарьян Наири (1900/1901-1969) - армянский писатель.
12. Смолич Ю.К. (1900-1976) - писатель. Герой социалистического труда.
13. Кирсанов С.И. (1906-1972) - поэт. Лауреат Государственной премии (1951).
14. 27 октября 1958 г. Президиум Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и Президиум Правления Московского отделения Союза писателей РСФСР на совместном заседании приняли постановление о лишении Б.Л. Пастернака звания советского писателя и исключении его из Союза писателей СССР (Литературная газета. 1958. 28 октября). Постановление отменено Секретариатом Правления Союза писателей СССР 19 февраля 1987 г. (Литературная газета. 1987. 25 февраля).
Электронная версия документа перепечатывается с сайта Александра Н. Яковлева.
Далее читайте:
Пастернак Борис Леонидович (1890-1960) поэт, переводчик, прозаик.
Россия в 50-е годы (хронологическая таблица).
Основные события 1953 года (хронологическая таблица).
Прав ли был Слуцкий, когда он писал: "Грехи прощают за стихи. Грехи большие - за стихи большие", я не знаю, но его мольба, обращенная к потомку: "Ударь, но не забудь. Убей, но не забудь", пронзает своим предсмертным мужеством самоосуждения" .
Галина Медведева: "…трудно понималась роковая ошибка Слуцкого, так смазавшая и надломившая блестящее начало пути. Честолюбивое желание стать в первые ряды чуть вольнее вздохнувшей литературы, вполне законное, но если бы без человеческих жертв… За то, что Слуцкий сам себя казнил, ему простилось. Даже неподкупная Л. К. Чуковская говорила о его раскаянии сочувственно и мягко. Но как по-человечески жаль этой горестной муки, этой пытки совестью…"
Несмотря на отказ от премии, Пастернак, по-разному оцененный в обществе и литературных кругах, вел себя мужественно и удивительно спокойно. По свидетельству близких, Борис Леонидович в самые тягостные и мрачные октябрьские дни 1958 года работал за столом, переводил "Марию Стюарт". Но "эпопея" не могла не отразиться на здоровье. Менее чем через два года после травли и вынужденного отказа от премии, 30 мая 1960 года Борис Леонидович Пастернак скончался. Ему было семьдесят лет. Он уходил из жизни так же мужественно, как и жил. Похороны Пастернака оказались первой публичной демонстрацией набиравшей силу демократической литературы.
Слуцкий в годы, последовавшие после 1958-го, думал о московском писательском собрании и о своем выступлении, писал стихи, которые становятся более понятны, коль скоро они воспринимаются на фоне пастернаковской истории.
Бьют себя мечами короткими,
проявляя покорность судьбе,
не прощают, что были робкими,
никому. Даже себе.
Где-то струсил. И этот случай,
как его там ни назови,
солью самою злой, колючей
оседает в моей крови.
Солит мысли мои и поступки,
вместе, рядом ест и пьет,
и подрагивает, и постукивает,
и покоя мне не дает.
Жизнь, хотя и окрашенная мрачными воспоминаниями, продолжалась. "Он освобождался, он выжигал в себе раба предвзятых истин, кабинетных схем, бездушных теорий. В его творчестве конца 60–70-х годов нам явлен благой и строгий пример возвращения от человека сугубо идеологического к человеку естественному, пример содрания с себя ветхих одежд, пример восстановления доверия к живой жизни с ее истинными, а не фантомными основаниями. "Политическая трескотня не доходит до меня", - писал теперь один из самых политических русских поэтов. От нервного пулеметного треска политики он уходил к спокойному и чистому голосу правды - и она откликалась в нем строками прекрасных стихов" (Ю. Болдырев).
Глава седьмая
ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА
Еврейская тема для русского поэта Бориса Слуцкого оставалась постоянной болью и предметом глубоких раздумий. "Быть евреем и быть русским поэтом - ноша эта была для души его мучительной" .
Эта тема всегда была в России (и не только в России) болезненной, деликатной, сложной для поэтического воплощения. В какой-то мере ее удалось воплотить Михаилу Светлову, Иосифу Уткину, Эдуарду Багрицкому, Александру Галичу, Науму Коржавину.
"Пастернак затронул ее в стихах начала тридцатых годов, - пишет Соломон Апт в воспоминаниях о Борисе Слуцком, - затронул мимоходом, намеком, как бы на секунду, высветив лучом, но не задерживаясь, не пускаясь в глубь вопроса о зависимости широкого признания от его укорененности в почве…" Еще в 1912 году, в пору увлечения философией, Пастернак писал отцу: "…ни ты, ни я, мы не евреи; хотя мы не только добровольно и без всякой тени мученичества несем все, на что нас обязывает это счастье (меня, например, невозможность заработка на основании только того факультета, который дорог мне), не только несем, но я буду нести и считаю избавление от этого низостью; но нисколько от этого мне не ближе еврейство" . (Еврей в России не мог быть оставлен при университете, а для философа это было единственной возможностью профессиональной работы.) Вопрос этот волновал Бориса Пастернака и в последние годы жизни. Ему посвящены две главы (11 и 12) "Доктора Живаго". Пастернак устами Живаго говорит, что "противоречива самая ненависть к ним <евреям>, ее основа. Раздражает как раз то, что должно было бы трогать и располагать. Их бедность и скученность, их слабость и неспособность отражать удары. Непонятно. Тут что-то роковое" . Другой персонаж романа, Гордон, ищет ответ на вопрос: "в чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько неповинных стариков, женщин, детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению?" Сам поэт видел выход в ассимиляции.
Эта тема волновала и близкого друга Слуцкого Давида Самойлова. Правда, у него нет стихов, посвященных еврейскому вопросу, но в 1988 году, незадолго до кончины, вспоминая Холокост, "дело врачей" и антисемитизм послевоенной поры, Самойлов записал в дневнике: "Если меня, русского поэта и русского человека, погонят в газовую камеру, я буду повторять: "Шема исроэл, адэной элэхейну, эдэной эход". Единственное, что я запомнил из своего еврейства" . Он мог бы добавить и то, что передалось ему от любимого отца, - чувства двойной принадлежности России и еврейству.
Слуцкого не пугало, что ход в эту "проклятую" область был наглухо запрещен. Ему не впервой было писать "в стол". Стихи на еврейскую тему были вызваны непреходящей болью. И писал он об этом вовсе не потому, что антисемитизм касался его лично или что Холокост унес жизни его близких: он ненавидел любые проявления ксенофобии. Верный лучшим традициям русской литературы, Слуцкий всегда был на стороне преследуемых и угнетенных.
Стихи и проза, относящиеся непосредственно к еврейской теме, органично вплетены в творчество поэта, в котором гимн мужеству российского солдата, сострадание его военной судьбе и радость за его успехи соседствуют со стихами, полными жалости к пленному итальянцу ("Итальянец"), смертельно раненному "фрицу" ("Госпиталь"), престарелой немке ("Немка") и возвращающимся из советских лагерей польским офицерам армии Андерса ("Тридцатки").
Поэт отстаивал необходимость впитывания евреями культуры тех народов, в среду которых их поместила судьба, и вписывания еврейского опыта в культурный контекст этих народов.
Я не могу доверить переводу
Своих стихов жестокую свободу,
И потому пойду в огонь и воду,
Но стану ведом русскому народу.
Я инородец; я не иноверец.
Не старожил? Ну что же - новосел.
Я как из веры переходят в ересь,
Отчаянно в Россию перешел…
В стихотворении "Березка в Освенциме" Слуцкий не случайно пишет: "Свидетелями смерти не возьму // платан и дуб. // И лавр мне - ни к чему. // С меня достаточно березки". Он подчеркивает тем самым и свое еврейство (ибо Освенцим был построен для уничтожения именно евреев), и свою верность России (ибо березка - символ России). Для Слуцкого неразрывными оказываются его еврейство, русский патриотизм и интернационализм. Без этих трех составляющих невозможно представить себе ту идеологию Бориса Слуцкого, которой он оставался верен до конца своих дней.
Александр Подрабинек: Эпиграфом к этому выпуску нашей передачи можно взять цитату из трактата Платона «Государство», в котором он приводит слова Сократа: «По отношению к государству положение самых порядочных людей настолько тяжелое, что ничего не может быть хуже».
Тема нашей сегодняшней программы – интеллигенция и власть, точнее – не просто интеллигенция, а деятели науки и культуры, а еще точнее – культурная элита, самые талантливые и достойные, мастера культуры, как сказал о них однажды Максим Горький.
Это было в марте 1932 года. Американские журналисты написали пролетарскому писателю письмо с выражением озабоченности положением дел в Советской России.
«С кем вы, “мастера культуры”?», – спрашивал их в ответном письме Горький. Он неистово клеймил буржуазный кинематограф, который «постепенно уничтожает высокое искусство театра», поносил «однообразно сентиментального и унылого Чарли Чаплина» и всю западную интеллигенцию, которая «продолжает довольствоваться службой капитализму». О русской интеллигенции он выразился так: «Посмотрите, какой суровый урок дала история русским интеллигентам: они не пошли со своим рабочим народом и вот - разлагаются в бессильной злобе, гниют в эмиграции. Скоро они все поголовно вымрут, оставив память о себе как о предателях».
«Буревестник революции» ошибся: театр не исчез под напором кинематографа, Чаплин остался непревзойденным гением немого кино, русская интеллигенция не вымерла, несмотря на пожелания Горького, а сам он остался навязчивой строкой в школьной программе и не более того.
Я тщетно искал в российской истории случаи, когда бы люди с несомненным талантом и успешной творческой судьбой ходатайствовали перед монархами об удушении свободы. Да, они не всегда занимали достойную позицию. «Наше все» – Александр Сергеевич Пушкин в 1831 году написал стихотворение «Клеветникам России», в котором воспевал подавление Россией польского восстания 1830 года. Василий Андреевич Жуковский отозвался на те же события стихотворением «Та же песня на новый лад», в котором славил русское оружие и взятие Варшавы. Федор Иванович Тютчев отметился стихотворением «Так мы над горестной Варшавой удар свершили роковой». Михаил Юрьевич Лермонтов с легким сердцем участвовал в завоевании Кавказа, а однажды, очевидно, в подражание Пушкину, написал стихотворение «Опять, народные витии», но, слава богу, не стал его публиковать.
Все так, но никто из них не писал царям писем поддержки и одобрения, не юлил перед троном, не призывал к расправе над идейными противниками. Это появилось позже, в советское время. Тогда же началась и эпоха коллективных писем в поддержку решений партии и правительства. Это особый стиль. Здесь главное – не объяснить городу и миру свою позицию по тому или иному вопросу, а продемонстрировать свою лояльность. В 30-х годах XX столетия это стало ритуалом. Всякая попытка избежать его могла иметь тяжелые последствия.
Сталинский режим имитировал всенародную поддержку, поэтому для него так важно было, чтобы подписи талантливых и признанных деятелей культуры стояли под документами, одобряющими террор. На этом поприще в 1937 году отметились Виктор Шкловский, Андрей Платонов, Юрий Тынянов, Исаак Бабель, Константин Паустовский, Василий Гроссман, Михаил Зощенко, Юрий Олеша. Под письмом советских писателей с требованием расстрелять «шпионов» стоит подпись Бориса Пастернака. Стихи, восхваляющие Сталина, писали Александр Вертинский, Осип Мандельштам, Анна Ахматова.
Что заставляло их идти на это? Только ли страх возможных репрессий? Мы обсуждаем это с нашим сегодняшним гостем – филологом и литературным критиком Михаилом Яковлевичем Шейнкером.
Что было мотивом, как вы считаете, для написания таких писем, может быть очевидными мотивами и не очевидными мотивами?
Михаил Шейнкер: Прежде всего, у меня есть приятная возможность в одной детали вас опровергнуть. Совершенно точно установлено, что подпись Пастернака под требованием казни маршалов подделана секретарем Союза писателей Ставским Владимиром Петровичем, который приехал к Пастернаку, упрашивал его, чуть ли не валяясь у него в ногах: “Борис Леонидович, нужно подписать, нельзя не подписать”. Беременная Зинаида Николаевна, жена Бориса Леонидовича, тоже падала ему в ноги. Тем не менее, он сказал: “Я им жизнь не давал, я ее отнимать не могу” и не подписал. Ставский уехал. И ужас Ставского, который нам трудно представить, - легко представить ужас Пастернака, легко представить себе ужас Зинаиды Николаевны за будущего ребенка, - но ужас Ставского нам представить, наверное, сейчас трудно. Но это был такой ужас, что он поставил подпись Пастернака, подделал ее, поставил подпись под этим письмом. А Пастернак требовал потом, чтобы газета “Правда” сняла и опровергла его подпись.
Александр Подрабинек: Это очень хорошее уточнение. А как другие писатели реагировали? Ведь это были достойные люди, успешные писатели.
Михаил Шейнкер: Я думаю, что единственное реальное объяснение всему этому - это, конечно же, та степень парализующего страха, до которого была доведена страна и, в том числе, ее лучшие, наиболее яркие представители в лице писателей, поэтов, художников и прочих, как говорил Горький, деятелей искусств, просто реально боявшихся не только за свое благополучие, не только за возможность писать и публиковать свои книги, но просто реально за свою жизнь. Я бы только, если можно, еще бы два слова сказал о Платонове, потому что его положение было отлично от большинства других.
Александр Подрабинек: Почему?
Михаил Шейнкер: Платонов никогда не был благополучен, Платонову всегда нужно было воевать за возможность просто быть в литературе, жить литературным трудом. А начиная с 1938 года Платоновым довлел еще один, уже личный, ужас - это арест его 16-летнего сына, который в течение трех лет был в заключении и затем вскоре после освобождения через три года умер от туберкулеза. И это, конечно, могло заставить Платонова делать все, что угодно.
Александр Подрабинек: Страх – двигатель террора. Это несомненно. Но вряд ли такой стиль отношений с властью укоренился в нашем обществе только из за страха деятелей культуры за свою жизнь. Потому что в послесталинские времена отказ от демонстрации лояльности уже не угрожал жизни, а стиль отношений, между тем, остался прежним.
Как и в 30-е годы волны общественного возмущения в брежневские времена поднимались не сами по себе – режиссеры кампаний сидели в Москве на Старой площади. Обычно писателей, композиторов, художников, ученых власть звала на подмогу, когда ей было необходимо противопоставить зарубежному общественному мнению что-то свое – заслуженное и в то же время лояльное. Самая широкая мобилизация проводилась властью, когда она начинала кампании дискредитации академика Сахарова и Александра Солженицына.
Совершенно секретно. Особая папка. Выписка из протокола № 192 заседания Политбюро ЦК КПСС от 15 октября 1975 года «О мерах по компрометации решения Нобелевского комитета о присуждении премии мира Сахарову А.Д.»
Поручить отделам пропаганды ЦК КПСС подготовить от имени президиума Академии Наук и видных советских ученых открытое письмо, осуждающее акцию Нобелевского комитета, присудившего премию лицу, вставшему на путь антиконституционной, антиобщественной деятельности… Редакции газеты «Труд» опубликовать фельетон…
Заявление советских ученых, газета «Известия», 25 октября 1975 года: «Мы полностью разделяем и поддерживаем миролюбивую политику Советского Союза… Под видом борьбы за права человека Сахаров выступает как противник нашего социалистического строя. Он клевещет на великие завоевания…, ищет предлоги опорочить…».
«Хроника великосветской жизни». 28 октября 1975 года. «Восседая на любимом месте, на кухне своей квартиры, поблизости от холодильника и мойки, академик предписал человечеству, как жить».
Это верх фельетонного остроумия товарища Азбеля. Или того, кто скрылся за этим псевдонимом. Отметилась в «Литературной газете» и «прогрессивная писательница из Канады» Мэри Досон.
«…Наслаждайтесь секундой славы, пока можете, господин Сахаров, потому что в конце концов правда берет верх».
Такова механика всех пропагандистских кампаний: взмах дирижерской палочки и деятели науки и культуры дружно бегут демонстрировать свою лояльность. Только в кампании газетной травли Сахарова в 1973 году отметились такие незаурядные личности как композиторы Георгий Свиридов, Армен Хачатурян, Дмитрий Шостакович и Родион Щедрин; лауреаты Нобелевской премии по физике Черенков, Франк, Басов и Прохоров, лауреат Нобелевской премии по химии Семенов. А еще: 33 академика ВАСХНИЛ, 25 академиков Академии медицинских наук, 23 академика Академии педагогических наук.
Не остались в стороне и кинематографисты, среди которых Александр Алов, Сергей Бондарчук, Сергей Герасимов, Лев Кулиджанов, Роман Кармен, Владимир Наумов, Вячеслав Тихонов, Людмила Чурсина.
Поддержали кампанию травли и советские художники – члены Академии художеств и не члены тоже.
Ну и разумеется, писатели, куда же без них!
«Советские писатели всегда вместе со своим народом и Коммунистической партией боролись за высокие идеалы коммунизма», пишут они в редакцию газеты «Правда». И в заключение добавляют: «…Поведение таких людей как Сахаров и Солженицын не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения». И подписи: Чингиз Айтматов, Юрий Бондарев, Василь Быков, Расул Гамзатов, Сергей Залыгин.
Это уж не говоря о Михалкове, Маркове или Шолохове.
Что же в 1973 году, через 20 лет после смерти Сталина, могло так напугать советских писателей, в том числе совсем не бездарных, что они ринулись подписывать письма против Сахарова и Солженицына? Чем они так уж сильно рисковали в случае отказа? Михаил Яковлевич, что вы думаете по этому поводу, ведь это было уже новое время?
Михаил Шейнкер: Да, это было новое время, но, я думаю, что старые идеи, глубоко укорененные в этом новом, но не совсем таком новом времени, превалировали в сознании этих людей. Накануне создания Союза советских писателей Сталин написал Кагановичу, потому что Лазарь Моисеевич по тем временам был очень приближен к вопросам идеологии и их контролировал, Сталин писал Кагановичу: “Надо разъяснить всем литераторам, что хозяином в литературе, как и в других областях, является только ЦК”.
Александр Подрабинек: Очень откровенно.
Михаил Шейнкер: Это откровенное и, признаемся, убедительное утверждение Сталина и стало основой, почвой всей деятельности официальной советской литературы.
Александр Подрабинек: Но прошло 20 лет со времени смерти Сталина, прошла оттепель, прошел ХХ съезд, осудили культ личности, казалось бы, после этого можно было, по крайней мере, писателям не опасаться за свою жизнь.
Михаил Шейнкер: Да, конечно, и поэтому мы сейчас обо всем этом говорим. Потому что, если бы речь шла о людях, спасавших свою жизнь или жизнь своих близких, я, признаться, и не решился бы обсуждать их деяния. Но чем ниже порог риска, тем выше порог предательства, отступничества и предательства прежде всего перед самим собой и своими талантами. Потому что советский писатель мог в миг лишиться своего благополучного положения, если бы просто его перестали печатать и перестали выпускать, скажем, за границу.
Александр Подрабинек: То есть это была уже новая цена?
Михаил Шейнкер: Это новая цена - циническая. Не трагическая, а циническая цена вот этой низости и этого предательства.
Александр Подрабинек: Жанр коллективных писем правительству не исчез с концом советской власти, хотя тогда уже никому ничего не угрожало. Еще можно понять, когда власть была слаба и нуждалась в поддержке, а страна была на гране гражданской войны. Так было в октябре 1993 года, и тогда на всю страну прозвучало обращение 42 писателей с призывом к Ельцину отстоять российскую демократию. Удивительно, что среди писателей, требовавших дать отпор красно-коричневым мятежникам, были не только Булат Окуджава и Дмитрий Лихачев, но и Василь Быков, когда-то принявший участие в травле Солженицына, и Виктор Астафьев, подписавший в свое время вместе с другими писателями публичный донос на ансамбль «Машина времени». В то же время среди защитников советской реставрации оказались подписавшие в коммунистической газете «Правда» коллективное письмо бывшие диссиденты Андрей Синявский и Петр Егидес. Время иногда ставит все с ног на голову!
Красно-коричневый мятеж тогда провалился, и власть укрепилась, чего не скажешь о демократии. Возродился и жанр публичного единения с властью. 28 июня 2005 года газета «Известия» опубликовала письмо 50 деятелей культуры, приветствовавших уже вынесенный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
А совсем недавно на сайте Министерства культуры появилось коллективное письмо деятелей культуры «в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму», а фактически – в поддержку захвата Крыма и военных действий против Украины. Сейчас там уже более 500 подписей. И как обычно в новейшей нашей истории, наряду с профессиональными приспособленцами и верными придворными встречаются имена тех, кого в единодушии с властью так не хотелось даже подозревать: Павел Лунгин, Леонид Куравлев, Олег Табаков, Геннадий Хазанов, Дмитрий Харатьян…
Наверное, у каждого свой список. Может быть, мы сами заблуждались, неверно оценивая этих людей? А может быть, эти люди действовали в вынужденных обстоятельствах? Писатель и публицист Виктор Шендерович делит всех подписантов на три категории.
Виктор Шендерович: Есть такой либеральный соблазн широким жестом сказать, что все они продажные негодяи, и закрыть тему. Это не вполне так, разумеется, там очень разные случаи. Там есть энтузиасты, которые бегут впереди паровоза и счастливы любому случаю оказаться замеченными. Там есть люди, сами с собой договорившиеся, что они при любой власти просто делают свое дело, просто сами с собой договорились, что они пишут музыку, играют на альте, ставят спектакли и не надо к ним никаких других требований. Это вторая категория людей. Третья категория - это заложники. Мы помним ситуацию с Чулпан Хаматовой. Среди подписантов есть заложник как минимум один, которого я знаю, заложник, который мне честно объяснял совершенно личным порядком, поэтому я, разумеется, не буду называть фамилию. Это люди, которых держат за очень какое-то уязвимое место не в их биографии довольно безукоризненной, а в том, что власть отрезает финансирование, а на них больные дети, требующие операций, какие-то медицинские центры, какие-то люди. И это совершенно разные случаи, поэтому я бы не стал великих заложников ровнять с условной Бабкиной.
Александр Подрабинек: Михаил Яковлевич, вы согласны с таким условным разделением на три категории?
Михаил Шейнкер: Если придать этим категориям некоторый более тонкий и отчетливый вид, то, наверное, с ним можно согласиться. Потому что Шендерович перечислил те человеческие причины, которые заставляют людей делать то, чего они делать не хотят. А в качестве нюансировки я бы сказал следующее. Когда-то Пастернак, его даже в этом упрекали и с удивлением смотрели на него в эти моменты, как говорили, был заражен личностью Сталина, написал, как известно, стихотворение “Художник”, вторая часть которого впоследствии не публиковалась, но которая, тем не менее, была написана, в 1936 году в “Знамени” опубликована. Там много слов сказано о Сталине: железный человек, событие и так далее. А кончается стихотворение тем, что вот он, поэт, теперь далекий от вершин власти, надеется, что “где-то существует знание друг о друге предельно дальних двух начал”. Так заканчивает Пастернак это стихотворение. И конечно же, это был искренний поиск какой-то новой своей идентичности в новом мире, в новом обществе, который заставил Пастернака это стихотворение написать. Конечно же, впоследствии он всем этим переболел, все это пережил, но тем не менее, мы знаем, что до конца жизни отношение к Сталину у него было как к убийце, но к убийце крупного масштаба, которое шло вразрез с его отношением, скажем, к Хрущеву, как к пошляку и ничтожеству. Я это говорю к тому, что среди присутствующих я даже понимаю, кто был, и были люди, как раз продолжающие ветвь Пастернака, которые может быть вдохновлялись тем, как когда-то написал о Сталине Пастернак и в какой-то степени экстраполировали эти слова на нынешнюю власть. Это попытка не то, чтобы сближения, не то, чтобы подладиться к ней, не то, чтобы к ней подольститься, а просто понять ее и, может быть, заставить обратить внимание эту власть на себя и внимание это могло бы может быть в надежде этих людей что-то изменить.
Александр Подрабинек: Интересно, что есть ветераны этого жанра. Михаил Шолохов, например, в 1937 году подписывал письма с требованием расстрела врагов народа, а в 1973 году подписывал письма, осуждающие Сахарова и Солженицына. Например, актриса Людмила Чурсина в 1973 году подписывала письма против Сахарова и Солженицына, а в наше время подписывается в поддержку Путина. То есть такая эстафета.
Михаил Шейнкер: Да, это прекрасная преемственность. Но есть и другая преемственность. Например, почтенный Вениамин Александрович Каверин в 1952 году не подписал письмо, требующее казни «врачей-убийц», а затем вообще не подписывал никаких писем подобного рода, а дожил он до конца 1980-х годов и сохранил в этом смысле твердую, уверенную, определенную и порядочную позицию. Или, скажем, Белла Ахмдулина, которая в 1959 году не стала участвовать в травле Пастернака, за это исключена была из Литературного института, что вообще мало ей повредило, это вообще вряд ли кому бы то ни было могло повредить, но тем не менее. Тогда как несчастный Борис Слуцкий, который тогда подписал это письмо, потом в течение всей жизни просто этим был болен. То есть он не был клиническим безумцем, но психологически человек абсолютно надорванный, и причиной этого было то, что он сделал в 1959 году, он - фронтовик, смелый человек и так далее. И еще расскажу интересный пример. Среди тех, кто подписывал письмо в защиту демократии в 1993 году, был человек, который в 1983 году вступил в Антисионистский комитет советского народа, который был организован по странному стечению обстоятельств, извещение о его организации прозвучало в “Правде” 1 апреля 1983 года, некоторыми было воспринято как шутка. Туда вошли несколько физически доказавших, исторически доказавших свое мужество людей - Драгунский старший, генерал Драгунский, отчаянный вояка, ставший председателем этого комитета. Летчик-испытатель, герой Советского Союза писатель Гофман, фронтовик, чего ему было бояться в 1983 году, спрашивается? Один из членов этого антисионистского комитета потом пересмотрел полностью все свои взгляды, стал человеком демократических воззрений, приверженцем ельцинской демократии и так далее.
Александр Подрабинек: А бывали и обратные случаи. Совершенно, казалось бы, странное, например, письмо, осуждающее Ходорковского и Лебедева, в поддержку приговора подписал Антонов-Овсеенко, который был председателем регионального общественного объединения жертв политических репрессий, директор музея ГУЛАГа.
Михаил Шейнкер: Это факт поистине удивительный. Мы Антонова-Овсеенко помним по его первым давним публикациям на эти темы.
Александр Подрабинек: Это же письмо подписал и историк Рой Медведев, который в свое время за его книгу “К суду истории” подвергался преследованиям, у него дома проводились обыски, книга была запрещена. Очень странно, когда люди, которые сами подвергались репрессиям, потом выступают в поддержку репрессий против других людей.
Михаил Шейнкер: Я совершенно не хочу, не считаю себя вправе кого бы то ни было осуждать, и обсуждение хотел повернуть в другую сторону, тоже утешительную. Хорошо, эти люди совершили это, то, что кажется нам с вами глубочайшей идеологической, психологической и человеческой ошибкой, но они сделали это, слава богу, не под страхом смерти. Да, мы считаем, что они заблуждаются, у них были свои причины, может быть к этому привела текущая их личная жизненная ситуация, я допускаю, это очень вероятно, какая-то идеологическая полемика, в которую они втянулись. По крайней мере, они не дрожали за свою жизнь, когда делали это.
Александр Подрабинек: Очевидно, возможности самооправдания беспредельны. А вот послушаем, что говорит об этом Виктор Шендерович.
Виктор Шендерович: Про самооправдание очень смешное расскажу. Александр Александрович Калягин, подписывавший самые позорные в новейшей истории письма за посадку Ходорковского и оправдавший свою репутацию, потом поставил пьесу Сухово-Кобылина “Дело” и сыграл в ней, самую страшную русскую пьесу про русский судебный беспредел. Я не душеприказчик Александра Александровича, но я думаю, что он сам с собой так договорился, что он тут подпишет, но зато ему дают возможность в театре, построенном, данным в это же время за эту подпись, зато ему дают возможность это сыграть, и он просветит. Это такое классическое двоемыслие.
Александр Подрабинек: Однако, как бы ни была грустна наша сегодняшняя тема, давайте вспомним тех, кто не дрогнул и не сломался. Кого бы вы вспомнили в связи с этим из писателей и вообще из деятелей культуры?
Михаил Шейнкер: Я знаю писателей, которые избежали этого последующего позора в собственных глазах просто потому, что им и не предлагали участвовать в этих публичных подписаниях. Что же касается других людей... Скажем, никогда и ни в чем не был замечен рано и неизвестно каким образом ушедший от нас писатель Добычин, который сам всегда был предметом разборок, проборок и подобного рода издевательств общественных. Надо сказать, что Платонов только однажды и под тяжелейшим давлением вынужден был вступить на эту порочную стезю, в дальнейшем он всегда до конца своей жизни выдерживал лицо и в конце своей жизни стал совершеннейшим изгоем в советской литературе. Я знаю большое число людей из мира науки, которые иногда откровенно отказывались, а иногда с помощью разных ухищрений избегали подписывать какие бы то ни было документы такого рода. И им это успешно удавалось в силу их стойкости, хитроумия, а иногда и везения. Вспомним того же почтенного Капицу. Так что, конечно, такие люди были, но с течением времени их становится все больше и, я надеюсь, будет продолжать становиться все больше и больше. Потому что уровень теперешнего давления на писателя, художника, ученого, любого другого общественного человека, мне кажется, все-таки не столь катастрофически тяжел и ужасен.
Александр Подрабинек: Ну что ж, может быть, все на самом деле не так уж и плохо. И если верно, что не стоит село без праведника, то ведь в России таких людей найдется, наверное, не так уж мало? Виктор Шендерович считает, что нет причин для уныния.
Виктор Шендерович: Есть точка отсчета от абсолютного нравственного авторитета, так, как шли к Толстому, Чехову, Короленко, Золя, то есть есть человек, который воплощает в себе не только умение складывать слова и выдумывать сюжеты, а еще и абсолютный нравственный авторитет. Свято место совсем пусто не бывает. Есть Людмила Улицкая. Я сейчас говорю не о сравнении с Толстым или Чеховым с точки зрения литературы и так далее, я сейчас говорю о некотором нравственном авторитете. Не живет деревня без праведника, эти люди есть, есть Ахеджакова, которая одна искупит все актерское сословие, есть Юрский, Басилашвили. Есть Шевчук - совершенно неожиданно для меня. Русский рок казался мне давно ссучившимся, но на этом ссучившемся фоне вдруг появляется Юрий Шевчук. Порадуемся тому, что эти люди есть, все не так плохо.