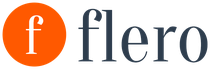Варлаам Шаламов – писатель, прошедший три срока в лагерях, переживший ад, потерявший семью, друзей, но не сломленный мытарствами: «Лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. <…> Со своей стороны я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».
Сборник «Колымские рассказы» — главное произведение писателя, которое он сочинял почти 20 лет. Эти рассказы оставляют крайне тяжелое впечатление ужаса от того, что так действительно выживали люди. Главные темы произведений: лагерный быт, ломка характера заключенных. Все они обреченно ждали неминуемой смерти, не питая надежд, не вступая в борьбу. Голод и его судорожное насыщение, измождение, мучительное умирание, медленное и почти столь же мучительное выздоровление, нравственное унижение и нравственная деградация - вот что находится постоянно в центре внимания писателя. Все герои несчастны, их судьбы безжалостно сломаны. Язык произведения прост, незатейлив, не украшен средствами выразительности, что создает ощущение правдивого рассказа обычного человека, одного из многих, кто переживал все это.
Анализ рассказов «Ночью» и «Сгущенное молоко»: проблемы в «Колымских рассказах»
Рассказ «Ночью» повествует нам о случае, который не сразу укладывается в голове: два заключенных, Багрецов и Глебов, раскапывают могилу, чтобы снять с трупа белье и продать. Морально-этические принципы стерлись, уступили место принципам выживания: герои продадут белье, купят немного хлеба или даже табака. Темы жизни на грани смерти, обреченности красной нитью проходят через произведение. Заключенные не дорожат жизнью, но зачем-то выживают, равнодушные ко всему. Проблема надломленности открывается перед читателем, сразу понятно, что после таких потрясений человек никогда не станет прежним.
Проблеме предательства и подлости посвящен рассказ «Сгущенное молоко». Инженеру-геологу Шестакову «повезло»: в лагере он избежал обязательных работ, попал в «контору», где получает неплохое питание и одежду. Заключенные завидовали не свободным, а таким как Шестаков, потому что лагерь сужал интересы до бытовых: «Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри все было выжжено, опустошено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов». Шестаков решил собрать группу для побега и сдать начальству, получив какие-то привилегии. Этот план разгадал безымянный главный герой, знакомый инженеру. Герой требует за свое участие две банки молочных консервов, это для него предел мечтаний. И Шестаков приносит лакомство с «чудовищно синей наклейкой», это месть героя: он съел обе банки под взорами других заключенных, которые не ждали угощения, просто наблюдали за более удачливым человеком, а потом отказался следовать за Шестаковым. Последний все же уговорил других и хладнокровно сдал их. Зачем? Откуда это желание выслужиться и подставить тех, кому еще хуже? На этот вопрос В.Шаламов отвечает однозначно: лагерь растлевает и убивает все человеческое в душе.
Анализ рассказа «Последний бой майора Пугачева»
Если большинство героев «Колымских рассказов» равнодушно живут неизвестно для чего, то в рассказе «Последний бой майора Пугачева» ситуация иная. После окончания Великой Отечественной войны в лагеря хлынули бывшие военные, вина которых лишь в том, что они оказались в плену. Люди, которые боролись против фашистов, не могут просто равнодушно доживать, они готовы бороться за свою честь и достоинство. Двенадцать новоприбывших заключенных во главе с майором Пугачевым организовали заговор с целью побега, который готовится всю зиму. И вот, когда наступила весна, заговорщики врываются в помещение отряда охраны и, застрелив дежурного, завладевают оружием. Держа под прицелом внезапно разбуженных бойцов, они переодеваются в военную форму и запасаются провиантом. Выйдя за пределы лагеря, они останавливают на трассе грузовик, высаживают шофёра и продолжают путь уже на машине, пока не кончается бензин. После этого они уходят в тайгу. Несмотря на силу воли и решительность героев, лагерная машина их настигает и расстреливает. Один лишь Пугачев смог уйти. Но он понимает, что скоро и его найдут. Покорно ли он ждет наказания? Нет, он и в этой ситуации проявляет силу духа, сам прерывает свой трудный жизненный путь: «Майор Пугачев припомнил их всех – одного за другим – и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил». Тема сильного человека в удушающих обстоятельствах лагеря раскрывается трагически: его или перемалывает система, или он борется и гибнет.
«Колымские рассказы» не пытаются разжалобить читателя, но сколько в них страданий, боли и тоски! Этот сборник нужно прочесть каждому, чтобы ценить свою жизнь. Ведь, несмотря на все обычные проблемы, у современного человека есть относительная свобода и выбор, он может проявлять другие чувства и эмоции, кроме голода, апатии и желания умереть. «Колымские рассказы» не только пугают, но и заставляют взглянуть на жизнь по-другому. Например, перестать жаловаться на судьбу и жалеть себя, ведь нам повезло несказанно больше, чем нашим предкам, отважным, но перемолотым в жерновах системы.
Интересно? Сохрани у себя на стенке! Михаил Юрьевич Михеев разрешил мне выложить в блоге главу из его готовящейся к изданию книги "Андрей Платонов… и другие. Языки русской литературы XX в." . Весьма ему благодарен.О заглавной Шаламовской притче, или возможном эпиграфе к «Колымским рассказам»
I О миниатюре «По снегу»
Миниатюру-зарисовку «По снегу» (1956), открывающую собой «Колымские рассказы», Францишек Апанович, на мой взгляд, очень точно назвал «символическим введением в колымскую прозу вообще», считая, что она играет по отношению ко всему целому роль своеобразного метатекста1. Я совершенно согласен с этой трактовкой. Обращает на себя внимание загадочно звучащая концовка этого самого первого текста в Шаламовском пяти
-книжии. «По снегу» следует признать своеобразным эпиграфом ко всем циклам «Колымских рассказов»2. Самая последняя фраза в этом первом рассказе-зарисовке звучит так:
А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели. ## («По снегу»)3
Как так? В каком смысле? - ведь если под писателем
Шаламов разумеет себя, а к читателям
относит нас с вами, то как мы
задействованы в самом тексте? Неужели он полагает, что мы тоже поедем на Колыму, будь то на тракторах или на лошадях? Или же под «читателями» имеются в виду - обслуга, охрана, ссыльные, вольнонаемные, начальство лагеря и т.п.? Кажется, что эта фраза концовки резко диссонирует с лирическим этюдом в целом и с предшествующими ей фразами, объясняющими конкретную «технологию» вытаптывания дороги по трудно проходимой Колымской снежной целине (но вовсе не - взаимоотношения читателей и писателей). Вот предшествующие ей фразы, из начала:
# Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след4.
Т.е. на долю тех, кто едет, а не идет, достается жизнь «легкая» а тем, кто топчет, тропит дорогу, приходится основной труд. Вначале в этом месте рукописного текста первой фразой абзаца читателю давалась более внятная подсказка - как понимать следующую за ней концовку, поскольку начинался абзац с зачеркнутого:
# Вот так идет и литература. То тот, то другой, выходит вперед прокладывает путь, а из идущих по следу даже каждый, даже самый слабый, самый маленький должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след.
Однако в самом конце - без всякой правки, будто уже заготовленная заранее - стояла финальная фраза, в которой сосредоточен смысл иносказания и как бы суть целого, загадочный Шаламовский символ:
А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.5 ##
Однако собственно про тех, кто ездит на тракторах и на лошадях
, до этого в тексте «По снегу», да и в последующих рассказах - ни во втором, ни в третьем, ни в четвертом («На представку» 1956; «Ночью»6 1954, «Плотники» 1954) - вообще-то не говорится7. Возникает смысловая лакуна, которую читатель не знает, чем заполнить, а писатель, по-видимому, и добивался этого? Тем самым как бы явлена первая Шаламовская притча - не прямо, но косвенно выраженный, подразумеваемый смысл.
Я благодарен за помощь в ее истолковании - Францишеку Апановичу. Ранее он уже писал обо всем рассказе в целом:
Возникает впечатление, что здесь нет рассказчика, есть только этот странный мир, который вырастает сам по себе из скупых слов рассказа. Но и такой - миметический - стиль восприятия опровергается последним предложением очерка, совершенно непонятным с этой точки зрения <…> если понять [его] дословно, надо бы прийти к нелепому выводу, что в лагерях на Колыме вытаптывают дороги только писатели. Абсурдность такого вывода заставляет реинтерпретировать это предложение и понять его как своего рода метатекстовое высказывание, принадлежащее не рассказчику, а некоему другому субъекту, и воспринимаемое как голос самого автора8.
Как мне кажется, текст Шаламова дает тут намеренный сбой. Читатель теряет нить рассказа и контакт с рассказчиком, не понимая, где кто из них. Смысл загадочной финальной фразы можно истолковать и как некий упрек: заключенные пробивают дорогу, в снежной целине
, - намеренно не идя
друг за другом в след, не топчут общую
тропу и вообще поступают не так
, как читатель
, который привык пользоваться уже готовыми средствами, установленными кем-то до него нормами (руководствуясь, например, тем, какие книги сейчас модны, или какие «приемы» в ходу у писателей), а - поступают именно как настоящие писатели
: стараются ставить ногу отдельно, идя каждый своим путем
, пролагая путь для тех, кто идет за ними. И только редким из них - т.е. той самой пятерке избранных первопроходцев - доводится на какое-то короткое время, пока они не выбьются из сил, пробивать эту нужную дорогу - для тех, кто едет следом, на санях и на тракторах. Писатели, с точки зрения Шаламова, и должны - прямо обязаны, если, конечно, они настоящие писатели, двигаться по целине («своей колеей», как позже споет об этом Высоцкий). То есть вот они-то как раз, в отличие от нас, простых смертных, не ездят на тракторах и лошадях. Шаламов приглашает еще и читателя - на место тех, кто торит дорогу. Загадочная фраза превращается в насыщенный символ всего Колымского эпоса. Ведь как мы знаем, у Шаламова деталь - мощнейшая художественная подробность, ставшая символом, образом («Записные книжки», между апрелем и маем 1960).
Дмитрий Нич заметил: на его взгляд, этот же текст как «эпиграф» перекликается еще и с первым текстом в цикле «Воскрешение лиственницы» - гораздо более поздней зарисовкой «Тропа» (1967)9. Вспомним, что там происходит и что стоит как бы за кадром происходящего: рассказчик находит «свою» тропу (здесь повествование - персонифицировано, в отличие от «По снегу», где оно безлично10) - тропу, по которой он ходит в одиночестве, в течение почти трех лет, и на которой у него рождаются стихи. Однако как только оказывается, что эта приглянувшаяся ему, исхоженная, взятая как бы в собственность дорожка открыта еще и кем-то другим (он замечает на ней чей-то чужой след), она лишается своего чудотворного свойства:
В тайге у меня была тропа чудесная. Сам я ее проложил летом, когда запасал дрова на зиму. (…) Тропа с каждым днем все темнела и в конце концов стала обыкновенной темно-серой горной тропой. Никто, кроме меня, по ней не ходил. (…) # Я по этой собственной тропе ходил почти три года. На ней хорошо писались стихи. Бывало, вернешься из поездки, соберешься на тропу и непременно какую-нибудь строфу выходишь на этой тропе. (…) А на третье лето по моей тропе прошел человек. Меня в то время не было дома, я не знаю, был ли это какой-нибудь странствующий геолог, или пеший горный почтальон, или охотник - человек оставил следы тяжелых сапог. С той поры на этой тропе стихи не писались.
Итак, в отличие от эпиграфа к первому циклу («По снегу»), тут, в «Тропе», акцент смещается: во-первых, само действие не коллективно, а - подчеркнуто индивидуально, даже индивидулистично. То есть эффект от топтания самой дороги другими, товарищами, в первом случае - только усиливался, упрочивался, а здесь, во втором, в тексте, написанном через более чем десяток лет, - пропадает из-за того, что на тропу вступил кто-то другой. В то время как в «По снегу» сам мотив ‘ступать только на целину, а не след в след’ перекрывался эффектом «коллективной пользы» - все муки первопроходцев и нужны были только для того, чтобы дальше, уже вслед за ними, ехали на лошадях и тракторах читатели. (Автор не вдавался в подробности, ну, а нужна ли вообще эта езда?) Теперь же как будто никакой читатель и альтруистическая польза уже не просматривается и не предусматривается. Здесь можно уловить определенное психологическое смещение. Или даже - намеренный уход автора от читателя.
II Признание - в школьном сочинении
Как ни странно, взгляды самого Шаламова на то, какова должна быть «новая проза», и к чему, собственно, должен стремиться современный писатель, наиболее отчетливо представлены не в его письмах, не в записных книжках и не в трактатах, а - в эссе, или попросту «школьном сочинении», написанном в 1956-м году - за
Ирину Емельянову, дочь Ольги Ивинской (с последней Шаламов был знаком еще с 30-х годов), при поступлении этой самой Ирины - в Литературный институт. В результате сам текст, составленный Шаламовым намеренно несколько по-школьному, во-первых, получил от экзаменатора, Н.Б. Томашевского, сына известного пушкиниста, «сверхположительный отзыв» (там же, с.130-1)11 , а во-вторых, по счастливому стечению обстоятельств - многое может теперь нам прояснить из воззрений на литературу самого Шаламова, уже вполне созревшего к 50-м годам для своей прозы, но в ту пору, как представляется, еще не слишком «замутнявшего» свои эстетические принципы, что явно делал впоследствии. Вот как на примере рассказов Хемингуэя «Что-то кончилось» (1925) он иллюстрирует захвативший его метод редукции деталей и возведения прозы к символам:
Герои его [рассказа] имеют имена, но уже не имеют фамилий. У них уже нет биографии. <…> Из общего темного фона «нашего времени» выхвачен эпизод. Здесь почти только изображение. Пейзаж в начале нужен не как конкретный фон, но как исключительно эмоциональное сопровождение…. В этом рассказе Хемингуэй пользуется своим излюбленным методом - изображением. <…> # Возьмем рассказ еще одного периода Хемингуэя - «Там, где чисто, светло»12. # У героев уже даже нет имен. <…> Берется даже уже не эпизод. Действия нет совсем <…>. Это кадр. <…> # [Это] - один из наиболее ярких и замечательных рассказов Хемингуэя. Там все доведено до символа. <…> # Путь от ранних рассказов до «Чисто, светло» - это путь освобождения от бытовых, несколько натуралистических деталей. <…> Это принципы подтекста, лаконизма. «<…> Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды»13. Языковые приемы, тропы, метафоры, сравнения, пейзаж как функция стиля Хемингуэй сводит к минимуму. # …диалоги любого рассказа Хемингуэя - это та самая восьмая часть айсберга, которая видна на поверхности. # Конечно, это умолчание о самом главном требует от читателя особой культуры, внимательного чтения, внутреннего созвучия с чувствами хемингуэевских героев. <…> # Пейзаж у Хемингуэя так же сравнительно нейтрален. Обычно пейзаж Хемингуэй дает в начале рассказа. Принцип драматического построения - как в пьесе - перед началом действия автор указывает в ремарках фон, декорацию. Если пейзаж повторяется еще раз в течение рассказа, то, по большей части, тот же самый, что и в начале. # <…> # Возьмем пейзаж Чехова. Например, из «Палаты № 6». Рассказ также начинается пейзажем. Но этот пейзаж уже эмоционально окрашен. Он более тенденциозен, чем у Хемингуэя. <…> # У Хемингуэя есть собственные, изобретенные им самим, стилистические приемы. Например, в сборнике рассказов «В наше время» это своего рода реминисценции, предпосланные к рассказу. Это и знаменитые ключевые фразы, в которых сосредотачивается эмоциональный пафос рассказа. <…> # Трудно сразу сказать, какова задача реминисценций. Это зависит и от рассказа, и от содержания самих реминисценций14.
Итак, лаконизм, умолчания, сокращение места для пейзажа и - показ как бы только отдельных «кадров» - вместо развернутых описаний, да еще обязательное избавление от сравнений и метафор, этой набившей оскомину «литературщины», изгнание из текста тенденциозности, роль подтекста, ключевых фраз, реминисценций - здесь буквально все принципы прозы самого Шаламова оказываются перечислены! Кажется, что ни позже (в трактате, изложенном в письме к И.П. Сиротинской «О прозе», ни в письмах Ю.А. Шрейдеру), ни в дневниках и записных книжках, он нигде с такой последовательностью так и не изложил своей теории новой
прозы.
Вот что, пожалуй, все-таки никак не удавалось Шаламову - но к чему он постоянно стремился - это сдерживать слишком прямое, непосредственное выражение своих мыслей и чувств, заключая главное из рассказа - в подтекст и избегая категорических прямых заявлений и оценок. Идеалы его были как будто - вполне Платоновские (или, может быть, в его представлении - Хемингуэевские). Сравним такую оценку наиболее «Хемингуэевского», как считается обычно для Платонова, «Третьего сына»:
Третий сын искупил грех своих братьев, устроивших дебош рядом с трупом матери. Но у Платонова нет и тени их осуждения, он вообще воздерживается от каких бы то ни было оценок, в его арсенале только факты и образы. Это, в некотором роде, идеал Хемингуэя, упорно стремившегося вытравить любые оценки из своих произведений: он практически никогда не сообщал мыслей героев - только их действия, старательно вычеркивал в рукописях все обороты, начинавшиеся со слова “как”, его знаменитое высказывание об одной восьмой части айсберга в большой степени касалось оценок и эмоций. В спокойной, неторопливой прозе Платонова айсберг эмоций не то что не высовывается ни на какую часть - за ним надо нырять на солидную глубину15.
Здесь можно только добавить, что у Шаламова его собственный «айсберг» все-таки в состоянии «вот-вот переворачивания»: в каждом «цикле» (и по многу раз) он-таки демонстрирует нам свою подводную часть… Политический, да и просто житейский, «болельщицкий» темперамент этого писателя всегда зашкаливал, он никак не мог удержать повествование в рамках бесстрастности.
1 Апанович Ф. О семантических функциях интертекстуальных связей в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова // IV Международные Шаламовские чтения. Москва, 18-19 июня 1997 г.:
Тезисы докладов и сообщений. - М.: Республика, 1997, с.40-52 (со ссылкой на Apanowicz F. Nowa proza Warlama Szalamowa. Problemy wypowiedzi artystycznej. Gdansk, 1996. S. 101-103) http://www.booksite.ru/varlam/reading_IV_09.htm
2 Автор работал над ними (включая «Воскрешение лиственницы» и «Перчатку») двадцать лет - с 1954 по 1973 год. Можно считать их пяти- или даже шестикнижием - в зависимости от того, относить ли к КР «Очерки преступного мира», стоящие несколько в стороне.
3 Знаком # обозначаю начало (или конец) нового абзаца в цитате; знаком ## - конец (или начало) всего текста - М.М.
4 Как бы рефреном дается здесь модальность долженствования
. Она обращена автором к самому себе, но значит, и - к читателю. Потом она будет повторена и во многих других рассказах, как, например, в финале следующего («На представку»): Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.
5 Рукопись «По снегу» (шифр в РГАЛИ 2596-2-2 - на сайте http://shalamov.ru/manuscripts/text/2/1.html). Основной текст, правка и заглавие в рукописи - карандашом. А наверху над названием, по-видимому, предполагавшееся первоначально название всего цикла - Северные рисунки?
6 Как можно видеть по рукописи (http://shalamov.ru/manuscripts/text/5/1.html), первоначальное название этой новеллы, затем перечеркнутое, было «Белье» - здесь слово в кавычках или же это по обе стороны знаки нового абзаца «Z» ? - То есть [ «Белье» Ночью] или: [ zБельеz Ночью]. Вот и название рассказа «Кант» (1956) - в рукописи в кавычках, они оставлены и в американском издании Р.Гуля («Новый Журнал» № 85 1966) и во французском издании М.Геллера (1982), но почему-то их нет в издании Сиротинской. - Т.е., непонятно: кавычки сняты были самим автором, в каких-то позднейших редакциях - или же это недосмотр (самоуправство?) издателя. Согласно рукописи, кавычки встречаем и во многих других местах, где читатель сталкивается со специфически лагерными терминами (например, и в названии рассказа «На представку»).
7 Про трактора впервые еще раз будет упомянуто только в концовке «Одиночного замера» (1955), т.е. через три рассказа от начала. Первый же намек про езду на лошадях в том же цикле - в рассказе «Заклинатель змей», т.е. уже через 16 рассказов от этого. Ну, а про лошадей в санных обозах - в «Шоковой терапии» (1956), через 27 рассказов, уже ближе к концу всего цикла.
8 Franciszek Apanowicz, „Nowa proza” Warłama Szałamowa. Problemy wypowiedzi artystycznej, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1986, s. 101-193 (перевод самого автора). Вот и в личной переписке, Францишек Апанович добавляет: «Шаламов был убежден, что он прокладывает в литературе новую дорогу, по которой еще не ступала нога человека. Он не только себя видел как первооткрывателя, но считал, что таких писателей, пробивающих новые дороги, немного. <…> Ну и - в символическом плане дорогу здесь топчут писатели (я бы даже сказал - вообще художники), а не читатели, о которых мы ничего не узнаем, кроме того, что они ездят на тракторах и лошадях».
9 Это некое стихотворение в прозе, замечает Нич: «тропа только до тех пор служит путем к поэзии, пока по ней не прошел другой человек. То есть по чужим следам поэт или писатель ступать не может» (в переписке по электронной почте).
10 Как топчут
дорогу по снежной целине? (…) Дороги всегда прокладывают
в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает
себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево … (подчеркивания мои - М.М.).
11 Ирина Емельянова. Неизвестные страницы Варлама Шаламова или История одного «поступления» // Грани №241-242, янв.-июнь 2012. Тарусские страницы. Том 1, Москва-Париж-Мюнхен-Сан-Франциско, с.131-2) - также на сайте http://shalamov.ru/memory/178/
12 [Рассказ был опубликован в 1926.]
13 [Шаламов цитирует самого Хемингуэя, без точной ссылки на
Главная тема, главный сюжет шаламовского жизнеописания, всех книг его ’’Колымских рассказов” — это поиск ответа на вопрос: может ли человек выстоять в экстремальных условиях и остаться человеком? Какова цена и каков смысл жизни, если ты уже побывал ”по ту сто-рону”? Раскрывая свое понимание этой проблемы, Варлам Шаламов помогает читателю точнее понять авторскую концепцию, активно применяя принцип контраста.
Способность ’’быть совмещенным в едином материале противоре-чием, взаимоотражением разных величин, судеб, характеров, и в то же время представлять некое целое” — одно из устойчивых свойств художественной мысли. Ломоносов называл это ’’сопряжени-ем далековатых идей”, П.Палиевский — ’’мышлением с помощью жи-вого противоречия”.
Противоречия коренятся внутри материала и из него извлека-ются. Но из всей их сложности, из хитроумно переплетенных самой жизнью нитей, писатель вычленяет некую доминанту, движущий эмоциональный нерв, и именно его делает содержанием произведения искусства, основанного на данном материале.
И парадокс, и контраст, так обильно используемые Шаламовым, способствуют наиболее активному эмоциональному восприятию про-изведения искусства. И в целом ”от того, насколько сильна в худож-нике способность совмещать разнородное, несовместимое, во многом зависит образность, свежесть, новизна его произведений” .
Шаламов заставляет читателя содрогнуться, вспоминая лейте-нанта танковых войск Свечникова (’’Домино”), который на прииске ’’был уличен в том, что ел мясо человеческих трупов из морга”. Но эффект усилен автором за счет чисто внешнего контраста: людоед этот — ’’нежный розовощекий юноша”, спокойно объясняющий свое пристрастие к ”не жирной, конечно”, человечине!
Или встреча рассказчика с коминтерновским деятелем Шнайде-ром, образованнейшим человеком, знатоком Гете (’’Тифозный каран-тин”). В лагере он — в свите блатарей, в толпе попрошаек. Шнайдер счастлив, что ему доверено чесать пятки главарю блатных Сенечке.
Понимание нравственной деградации, аморальности Свечникова и Шнайдера, жертв ГУЛАГА, достигается не многословными рассуж-дениями, а использованием художественного приема контраста. Та-ким образом, контраст выполняет в структуре произведения искусст-ва и коммуникативную, и содержательную, и художественную функ-ции. Он заставляет обостренно, по-новому увидеть и ощутить окружа-ющий мир.
Шаламов придавал огромное значение композиции своих книг, тщательно выстраивал рассказы в определенной последовательности. Поэтому появление рядом двух контрастирующих по своей художест-венной и эмоциональной сути произведений — не случайность.
Фабульная основа рассказа ’’Шоковая терапия” парадоксальна: врач, призвание и долг которого — помощь нуждающимся, все свои силы и знания направляет на разоблачение зека-симулянта, испыты-вающего ’’ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу и куда он боялся вернуться”. Рассказ наполнен подробным описанием варварских, садистских процедур, проводимых врачами, чтоб не дать измученному, истощенному ’’доходяге” ”вольную”. Следом в книге расположен рассказ ’’Стланик”. Эта лирическая новелла дает чита-телю возможность передохнуть, отойти от ужасов предыдущего рас-сказа. Природа, в отличие от людей, гуманна, щедра и добра.
Сравнение мира природы и мира людей у Шаламова — всегда не в пользу человека. В рассказе ’’Сука Тамара” противопоставлены на-, чальник участка и собака. Начальник ставил подчиненных ему людей в такие условия, что они вынуждены были доносить друг на друга. А рядом — собака, чья ’’твердость нравственная особенно умиляла ви-давших виды и бывавших во всех переплетах жителей поселка”.
В рассказе ’’Медведи” встречаем сходную ситуацию. В условиях ГУЛАГа каждый зека заботится лишь о себе. Встреченный же заклю-ченными медведь ’’явно принимал опасность на себя, ort , самец, жерт-вовал жизнью, чтоб спасти свою подругу, он отвлекал от нее смерть, он прикрывал ее бегство”.
Лагерный мир по сути своей антагонистичен. Отсюда — использо-вание Шаламовым контраста на уровне системы образов.
Герой рассказа ’’Аневризма аорты” врач Зайцев, профессионал и гуманист, противопоставлен аморальному начальнику больницы; в рассказе ’’Потомкок декабриста” постоянно сталкиваются контраст-ные по сути герои: декабрист Михаил Лунин, ’’рыцарь, умница, не-объятных познаний человек, слово которого не расходилось с делом”, и его прямой потомок, безнравственный и эгоистичный Сергей Ми-хайлович Лунин, врач лагерной больницы. Различие героев рассказа ’’Рябоконь” не только внутренне, сущностное, но и внешнее: ’’Огром-ное тело латыша было похоже на утопленника — иссиня-белое, вспух-шее, вздутое от голода... Рябоконь был не похож на утопленника. Ог-ромный, костистый, с иссохшими жилами”. Люди разных жизненных ориентаций столкнулись под конец жизни на общем больничном про-странстве.
”Шерри-бренди”, рассказ о последних днях жизни Осипа Ман-дельштама, весь пронизан противопоставлениями. Поэт умирает, но жизнь снова входит в него, рождая мысли. Он был мертвым, и вновь стал живым. Он думает о творческом бессмертии, перешагнув уже, в сущности, жизненную черту.
Выстраивается диалектически противоречивая цепочка: жизнь — смерть — воскресение — бессмертие — жизнь. Поэт вспоминает, сочи-няет стихи, философствует — и тут же плачет, что хлебная горбушка досталась не ему. Тот, кто только что цитировал Тютчева, ’’кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал, грыз...” Подобная раздвоенность, внутрен-нее несходство, противоречивость свойственны многим героям Шала-мова, оказавшимся в адовых условиях лагеря. Зека часто с удивле-нием вспоминает самого себя — другого, прежнего, вольного.
Страшно читать строки о лагерном коногоне Глебове, прославив-шемся в бараке тем, что ’’месяц назад забыл имя своей жены”. В ’’вольной” жизни Глебов был... профессором философии (рассказ ’’Надгробное слово”).
В рассказе ’’Первый зуб” мы узнаем историю сектанта Петра Зайца — молодого, черноволосого, чернобрового гиганта. Встреченный через некоторое время рвссказчиком ’’хромой, седой старик, кашля-ющий кровью” — это он же.
Подобные контрасты внутри образа, на уровне героя — не только художественный прием. Это и выражение шаламовской убежденно-сти, что нормальный человек не в состоянии противостоять аду ГУ-ЛАГа. Лагерь способен лишь растоптать и уничтожить. В этом, как известно, В.Шаламов расходился с ^Солженицыным, убежденным в возможности остаться человеком и в лагере.
В прозе Шаламова абсурдность гулаговского мира часто проявля-ется и в несоответствии реального положения человека и его офици-ального статуса. Например, в рассказе ’’Тифозный карантин” есть эпизод, когда один из героев добивается почетной и очень выгодной работы... барачного ассенизатора.
Сюжет рассказа ’’Тетя Поля” строится на подобном же контраст-ном несоответствии. Героиня — заключенная, взятая в прислуги на-чальством. Она была рабыней в доме и в то же время ’’негласным ар-битром в ссорах мужа и жены”, ’’человеком, знающим теневые сто-роны дома”. Ей хорошо в рабстве, она благодарна судьбе за подарок. Заболевшую тетю Полю помещают в отдельную палату, из которой предварительно ’’десять полу трупов вытащили в холодный коридор, чтобы освободить место дневальной начальника”. Военные, их жены приезжали к тете Поле в больницу с просьбой замолвить за них сло- вечко. А после смерти ’’всесильная ” тетя Поля заслужила лишь дере-вянную бирку с номером на левую голень, ведь она — просто ’’зека”, рабыня. Вместо одной дневальной придет другая, такая же бесфа-мильная, имеющая за душой лишь номер личного дела. Человеческая личность в условиях лагерного кошмара ничего не стоит.
Уже отмечалось, что использование приема контраста активизи-рует читательское восприятие.
Шаламов, как правило, скуп на подробные, детализированные описания. Когда же они используются, то по большей части являются развернутым противопоставлением.
Чрезвычайно показательно в этом плане описание в рассказе ’’Мой процесс”: ’’Мало есть зрелищ столь выразительных, как постав-ленные рядом краснорожие от спирта, раскормленные, грузные, отя-желевшие от жира фигуры лагерного начальства в блестящих, как солнце, новеньких, вонючих овчинных полушубках, в меховых рас-писных якутских малахаях и рукавицах-”крагах” с ярким узором — и фигуры ’’доходяг”, оборванных ’’фитилей” с ’’дымящимися” клоч-ками ваты изношенных телогреек, ’’доходяг” с одинаковыми гряз-ными костистыми лицами и голодным блеском ввалившихся глаз”.
Гиперболизация, педалирование отрицательно воспринимаемых деталей в облике ’’лагерного начальства” особенно ощутимы в срав-нении с темной, грязной массой ’’доходяг”.
Контраст подобного рода — и в описании яркого, красочного, сол-нечного Владивостока и дождливого, серо-унылого пейзажа бухты На- гаево (’’Причал ада”). Здесь контрастный пейзаж выражает различия во внутреннем состоянии героя — надежда во Владивостоке и ожида-ние смерти в бухте Нагаево.
Интересен пример контрастного описания — в рассказе ’’Марсель Пруст”. Небольшой эпизод: заключенному голландскому коммунисту Фрицу Давиду прислали в посылке из дома бархатные брюки и шел-ковый шарф. Истощенный Фриц Давид умер от голода в этой шикар-ной, но бесполезной в лагере одежде, которую ’’даже на хлеб на при-иске нельзя было променять”. Эту контрастную деталь по силе ее эмоционального воздействия можно сравнить с ужасами в рассказах Ф.Кафки или Э.По. Отличие в том, что Шаламов ничего не выдумал, не сконструировал абсурдный мир, а лишь вспомнил то, чему был свидетелем.
Характеризуя разные способы использования художественного принципа контраста в шаламовских рассказах, уместно рассмотреть его претворение на уровне слова.
Словесные контрасты можно подразделить на две группы. К пер-вой относятся слова, самый смысл которых контрастен, противопо-ставлен и вне контекста, а ко второй — слова, сочетания которых со-здают контраст, парадокс уже в конкретном контексте.
Сначала примеры из первой группы. ’’Тут же везут заключенных чистенькими стройными партиями вверх, в тайгу, и грязной кучей от-бросов — сверху, обратно из тайги” (’’Заговор юристов”). Двойное противопоставление (’’чистый” — ’’грязный”, ’’вверх” — ’’сверху”), усугубленное уменьшительным суффиксом, с одной стороны, и сни-женным словосочетанием ’’куча отбросов” — с другой, создает впе-чатление увиденной наяву картины двух встречных людских потоков.
”Я бросился, то есть поплелся в мастерскую” (’’Почерк”). Явно противоречивые лексические значения здесь равняются друг другу, рассказывая читателю о крайней степени истощения и немощности героя гораздо ярче, чем какое-либо пространное описание. Вообще Шаламов, воссоздавая абсурдный мир ГУЛАГа, часто объединяет, а не противопоставляет антиномичные по своему значению слова и вы-ражения. В нескольких произведениях (в частности, в рассказах ’’Храбрые глаза” и ’’Воскрешение лиственницы”) уравниваются тление, плесень и весна, жизнь и смерть: ”...плесень тоже ка-залась весенней , зеленой , казалась тоже живой , и мертвые стволы исторгали запах жизни . Зеленая плесень ... казалась символом вес-ны . А на самом деле это цвет дряхлости и тленья. Но Колыма зада-вала нам вопросы и потруднее , и сходство жизни и смерти не сму-щало нас ”.
Другой пример сходства контрастного: ’’Графит — это вечность. Высшая твердость, перешедшая в высшую мягкость” (’’Графит”).
Вторая же группа словесных контрастов — оксюмороны, исполь-зование которых рождает новое смысловое качество. ’’Перевернутый” мир лагеря делает возможными такие выражения: ’’сказка, радость одиночества”, ’’темный уютный карцер” и т.п.
Цветовая палитра рассказов Шаламова не очень интенсивна. Ху-дожник скупо раскрашивает мир своих произведений. Было бы чрез-мерным утверждение, что писатель всегда сознательно выбирает ту или иную краску. Он использует цвет и неумышленно, интуитивно. И, как правило, у краски естественная, натуральная функция. На-пример: ’’горы краснели от брусники, чернели от темно-синей голу-бики, ... наливалась желтая крупная водянистая рябина...” (’’Кант”). Но в ряде случаев цвет в рассказах Шаламова несет содержательную и идейную нагрузку, особенно тогда, когда использована контрастная цветовая гамма. Так происходит в рассказе ’’Детские картинки”. Раз-гребая мусорную кучу, рассказчик-заключенный нашел в ней тет-радку с детскими рисунками. Трава на них зеленая, небо синее-синее, солнце алое. Краски чистые, яркие, без полутонов. Типичная палитра детского рисунка Но: ’’Люди и дома... были огорожены желтыми ров-ными заборами, обвитыми черными линиями колючей проволоки”.
Детские впечатления маленького колымчанина упираются в жел-тые заборы и черную колючую проволоку. Шаламов, как всегда, не поучает читателя, не пускается в рассуждения по этому поводу. Столкновение цветов помогает художнику усилить эмоциональное воздействие этого эпизода, донести авторскую мысль о трагедии не только заключенных, но и колымских детей, рано ставших взрослыми.
Художественная форма произведений Шаламова интересна и иными проявлениями парадоксального. Мною замечено противоречие, в основе которого — несоответствие манеры, пафоса, ’’тональности” повествования и сути описываемого. Этот художественный прием адекватен тому шаламовскому лагерному миру, все ценности в кото-ром буквально перевернуты.
Примеров ’’смешения стилей” в рассказах множество. Характерен для художника прием, при котором патетически-возвышенно гово-рится об обыденных событиях и фактах. Например, о приеме пищи. Для зека это отнюдь не рядовое событие дня. Это ритуальное действо, дающее ’’страстное, самозабвенное ощущение” (’’Ночью”).
Поразительно описание завтрака, на котором раздают селедку. Художественное время здесь растянуто до предела, максимально при-ближено к реальному. Писателем подмечены все детали, нюансы этого волнующего события: ’’Пока раздатчик приближался, каждый уже подсчитал, какой именно кусок будет протянут этой равнодуш-ной рукой. Каждый успел уже огорчиться, обрадоваться, приготовить-ся к чуду, достичь края отчаяния, если он ошибся в своих торопливых расчетах” (’’Хлеб”). И вся эта гамма чувств вызвана ожиданием селе-дочного пайка!
Грандиозна и величественна увиденная рассказчиком во сне бан-ка сгущенного молока, сравненная им с ночным небом. ’’Молоко про-сачивалось и текло широкой струей Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко” (’’Сгущенное молоко”). Не только сравнение, но и инверсия (”и легко доставал я”) помогают здесь созданию торжественного пафоса.
Сходный пример — в рассказе ’’Как это началось”, где догадка о том, что ’’сапожная смазка — это жир, масло, питание”, сравнивается с Архимедовой ’’эврикой”.
Возвышенно и упоительно описание ягод, тронутых первым моро-зом (’’Ягоды”).
Трепет и преклонение в лагере вызывает не только пища, но и огонь, тепло. В описании в рассказе ’’Плотники” — поистине гомеров-ские нотки, пафос священнодействия: ’’Пришедшие стали на колени перед открытой дверцей печки, перед богом огня, одним из первых богов человечества... Они простерли руки к теплу...”
Тенденция к возвышению обыденного, даже низкого, проявляется и в тех рассказах Шаламова, где речь идет о сознательном членовре-дительстве в лагере. Для многих заключенных это было единствен-ной, последней возможностью выжить. Сделать себя калекой совсем непросто. Требовалась длительная подготовка. ’’Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу. И я — навеки инвалид! Эта страстная мечта подлежала расчету... День, час и минута были назначены и пришли” (’’Дождь”).
Начало рассказа ’’Кусок мяса” насыщено возвышенной лексикой; здесь упомянуты Ричард III, Макбет, Клавдий. Титанические страсти шекспировских героев уравнены с чувствами зека Голубева. Он по-жертвовал своим аппендиксом, чтобы избежать каторжного лагеря, чтоб выжить. ”Да, Голубев принес эту кровавую жертву. Кусок мяса вырезан из его тела и брошен к ногам всемогущего бога лагерей. Чтобы умилостивить бога... Жизнь повторяет шекспировские сюжеты чаще, чем мы думаем”.
В рассказах писателя часто контрастирует возвышенное восприя-тие какого-нибудь человека и его истинная сущность, низкий, как правило, статус. Мимолетная встреча с ’’какой-то бывшей или сущей проституткой” позволяет рассказчику рассуждать ”о ее мудрости, о ее великом сердце”, сравнивать ее слова с гетевскими строками о горных вершинах (’’Дождь”). Раздатчик селедочных голов и хвостов воспри-нимается заключенными всемогущим великаном (’’Хлеб”); дежурный врач лагерной больницы уподобляется ’’ангелу в белом халате” (’’Перчатка”). Таким же образом Шаламов показывает читателю ок-ружающий героев лагерный мир Колымы. Описание этого мира часто приподнятое, патетическое, что входит в противоречие с сущностной картиной действительности. ”В этом безмолвии белом я услышал не шум ветра, услышал музыкальную фразу с неба и ясный, мелодичный, звонкий человеческий голос...” (’’Погоня за паровозным дымом”).
В рассказе ’’Лучшая похвала” находим описание звуков в тюрь-ме: ’’Этот особенный звон, да еще грохот дверного замка, запираемого на два оборота, ... да щелканье ключом по медной поясной пряжке... вот три элемента симфонии ’’конкретной” тюремной музыки, кото-рую запоминают на всю жизнь”.
Неприятные металлические звуки тюрьмы сравниваются с соч-ным звучанием симфонического оркестра. Замечу, что приведенные примеры ’’возвышенной” тональности повествования взяты из тех произведений, герой которых или еще не был в страшном лагере (тюрьма и одиночество позитивны для Шаламова), или уже не в нем (рассказчик стал фельдшером). В произведениях же именно о лагер-ном бытии патетике практически места нет. Исключение составляет, пожалуй, рассказ ’’Богданов”. Действие в нем происходит в 1938 г., самом страшном и для Шаламова, и для миллионов других заключен-ных. Случилось так, что уполномоченный НКВД Богданов изорвал в клочья письма жены, от которой рассказчик не имел сведений два страшных колымских года. Чтобы передать свое сильнейшее потрясе-ние, Шаламов, вспоминая этот эпизод, прибегает к несвойственной, в общем-то, ему патетике. Рядовой случай вырастает в истинную чело-веческую трагедию. ”Вот твои письма, фашистская сволочь!” — Богданов разорвал в клочки и бросил в горящую печь письма от моей жены, письма, которые я ждал более двух лет, ждал в крови, в рас-стрелах, в побоях золотых приисков Колымы”.
В своей Колымской эпопее Шаламов использует и противопо-ложный прием. Он состоит в будничном, даже сниженном тоне пове-ствования о фактах и явлениях исключительных, трагических по своим последствиям. Описания эти отмечены эпическим спокойст-вием. ’’Это спокойствие, замедленность, заторможенность — не толь-ко прием, позволяющий нам пристальнее рассмотреть этот запредель-ный мир... Писатель не дает нам отвернуться, не видеть” .
Думается, что эпически спокойное повествование отражает и привычку заключенных к смерти, к жестокости лагерной жизни. К тому, что Е.Шкловский назвал ’’обыденностью агонии” }