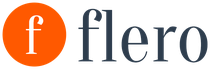Статья Валентина Распутина, посвященная 80-летию Александра Солженицына, к сожалению, поступила к нам уже после того, как был сверстан предыдущий субботний номер. Но разве она потеряла свою актуальность? Ведь значимость большого писателя определяется не юбилейными датами. Нашему читателю, без сомнения, будет интересна оценка, которую дает наш знаменитый земляк творчеству Александра Солженицына.
Как и во всякой большой литературе, в русской литературе существует несколько пород таланта. Есть порода Пушкина и Лермонтова - молодого, искрящегося, чувственного легкокрылого письма, дошедшая до Блока и Есенина; есть аксаковско-тургеневская, вобравшая в себя Лескова и Бунина, необыкновенно теплого, необыкновенно русского настроения и утраченного уже теперь острого обоняния жизни; их зачатие и вынашивание имеют какое-то глубинное, языческое происхождение, из самого нутра спрятанного в степях и лесах национального заклада. Есть и другие породы, куда встанут и Гоголь с Булгаковым, и Некрасов с Твардовским, и Достоевский, и Шолохов, и Леонов. И есть порода Державина - богатырей русской литературы, писавших мощно и гулко, мысливших всеохватно, наделенных к тому же богатырским запасом физических сил. Сюда нужно отнести Толстого и Тютчева. Здесь же в ХХ веке по праву занял свое место Солженицын.
Почти все написанное А.И. Солженицыным имело огромное звучание. Первую же работу никому тогда, в 1962 году, не известного автора читала вся страна. Читала взахлеб, с удивлением и растерянностью перед явившимся вдруг расширением жизни и литературы, перед расширением самого русского языка, зазвучавшего необычно, в самородных формах и изгибах, которые еще не ложились на бумагу. Приоткрылся незнакомый, отверженный мир, находившийся где-то за пределами нашего сознания, вырванный из нормальной жизни и заселенный на островах жизни ненормальной - тот мир, откуда вышел Иван Денисович Шухов, маленький непритязательный человек, один из тьмы тысяч. И вышел-то на день один из тьмы своих дней между жизнью и смертью. Но этого оказалось достаточно, чтобы многомиллионный читатель обомлел, признавая его и не признавая, обрушив на него лавину сострадания вместе с недоверием, вины и одновременно тревоги.
Вести, литературного характера тоже, доходили из того мира и прежде, но они были разрозненными, прерывистыми, невнятными, как в азбуке Морзе, сигналами, ключом к расшифровке которых владели по большей части побывавшие там. Иван же Денисович, в отпущенный ему день выведенный из барака на работу больным и в работе поправившийся и даже воодушевившийся, ничего от нас не потребовавший, ничем не укоривший, а только представший таким, какой он есть, оказался соразмерен нашему невинному сознанию и вошел в него без усилий. Вольно или невольно, автор поступил предусмотрительно, подготовив вкрадчивым и тароватым Шуховым, ни в чем не посягнувшим на читательское благополучие, пришествие "Архипелага ГУЛАГ". Без Шухова столкновение с ГУЛАГом было бы чересчур жестоким испытанием. Испытание - читать? "А испытание претерпевать, оказаться внутри этой страшной машины?" - вправе же мы сами себя и спросить. Да, это несопоставимые понятия, существование на разных планетах. И тем не менее испытание собственной шкурой не отменяет "переводного" испытания, испытания свидетельством. Обмеренный, исчисленный, многоголосый и неумолчный ГУЛАГ в натуральную величину и "производительность" - он и после Ивана Денисовича для многих явился чрезмерным ударом; не выдерживая его, они оставляли чтение. Не выдерживали - потому что это был удар, близкий к физическому воздействию, к восприятию пытки, выдыхаемой жертвами. Воздействие "Иваном Денисовичем" было не слабей, но другого - нравственного - порядка, вместе с болью оно давало и утешение. Чтобы прийти в себя после "Архипелага", следовало снова вернуться к "Ивану Денисовичу" и почувствовать, как мученичество от карающей силы выдавливает исцеляющее слезоточение.
Сразу после "Ивана Денисовича" - рассказы, и среди них "Матренин двор". И там и там в героях поразительная, какая-то сверхъестественная цепкость к жизни и вообще свойственная русскому человеку, но мало замечаемая, не принимаемая в расчет при взгляде на его жизнеспособность. Когда терпение подбито цепкостью, оно уже не слабоволие, с ним можно многое перемочь. Солженицын и сам, не однажды приговоренный, явил это качество в наипоследнем истяге, говоря его же словом, когда и свет мерк в глазах, снова и снова подниматься на ноги. Л.Н. Толстой словно бы и родился в пеленках великим. А.И. Солженицыну к своему величию пришлось продираться слишком издалека. "Не убьет, так пробьется" - вот это для него, для русского человека! - и давай его бить-колотить по всем ухабам, и давай его охаживать из-за каждого угла, и давай его на такую дыбу, что и небо с овчинку! Вот по такой дороге и шел к своему признанию Александр Исаевич. Выжил, научился держать удар, приобрел науку разбираться, что чего стоит, - после этого полной мерой дары во все "емкости", никаких норм.
"Матренин двор" заканчивается словами, которые почти сорок лет остаются на наших устах:
"Все мы жили рядом с ней (с Матреной Васильевной. - В.Р.) и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит ни село. Ни город. Ни вся земля наша".
Едва ли верно, как не однажды высказывалось, будто вся "деревенская" литература вышла из "Матрениного двора". Но вторым своим слоем, слоем моих сверстников, она в нем побывала. И уж не мыслила потом, как можно, говоря о своей колыбели - о деревне, обойтись без праведника, сродни Матрене Васильевне. Их и искать не требовалось - их нужно было только рассмотреть и вспомнить. И тотчас затеплялась в душе свечечка, под которой так сладко и отрадно было составлять житие каждой нашей тихой родины, и вставали они, старухи и старики, жившие по правде, друг после дружки в какой-то единый строй вечной подпоры нашей земле.
Кроме этой заповеди - жить по правде, - другого наследства у нас остается все меньше. А этим - пренебрегаем.
У крупных фигур свой масштаб деятельности и подъемной силы. Не поддается понимаю, как сумел Солженицын еще до изгнания, в весьма стесненных условиях, собрать, обработать и ввести в русло книги все то огромное и сжигающее, составившее "Архипелаг ГУЛАГ"! И откуда брались силы уже в Вермонте совладать с горой материала, надо думать, нескольких архивных помещений для "Красного колеса"! Успевая при этом вести еще публицистическое путеводство для России и Запада, успевая составлять и редактировать две многотомные библиотечные серии по новейшей русской истории! Тут годится только одно сравнение - с "Войной и миром" и Толстым. Солженицына с Толстым роднит многое. Одинаковая глыбастость фигур, огромная воля и энергия, эпическое мышление, потребность как у одного, так и у другого через шестьдесят примерно лет отстояния от исторических событий обратиться к закладным судьбоносным векам начала своего века. Это какое-то мистическое совпадение. Огромная популярность в мире, гулкость статей, звучание на всех материках. Один отлучен от церкви, другой от Родины. Помощь голодающим и помощь политзаключенным, затем литературе. Оба - великие бунтари, но Толстой создал свое бунтарство "на ровном месте", в условиях личного и отеческого (относительно, конечно) благополучия, Солженицын весь вышел из бунтарства, его в нем взрастила система. Солженицына судьба резко бросала с одной крутизны на другую, у Толстого биография после кавказской кампании взяла тихую гавань в Ясной Поляне и вся ушла в сочинительство и духовную жизнь. Но и после этого: повороты, приближающие их друг к другу. Солженицын в Америке погружается в затворничество, Толстой перед смертью совершает совсем не старческий поступок вечного бунтаря - свой знаменитый уход из Ясной Поляны.
И самое главное: "Лев Толстой как зеркало русской революции" и Александр Солженицын как зеркало русской контрреволюции спустя семьдесят лет после революции.
Редкий человек, ставя перед собой непосильную цель, доживает до победы. Александру Исаевичу такое выпало. Объявив войну могущественной системе, на родине призывая подданных этой системы жить не по лжи, а в изгнании постоянно призывая Запад усиливать давление на коммунизм, едва ли Солженицын мог рассчитывать при жизни на что-либо еще, кроме идеологического ослабления и отступления коммунизма на более мягкие позиции. Случилось, однако, большее и, как вскоре выяснилось, худшее: система рухнула. История любит сильные и быстрые ходы, на обоснование которых затем приносятся огромные жертвы. Так было в 1917-м году, так произошло и на этот раз.
Боясь именно такого исхода в будущем, Солженицын не однажды предупреждал: "... но вдруг отвались завтра партийная бюрократия... и разгрохают наши остатки еще в одном феврале, в еще одном развале" ("Наши плюралисты", 1982 г.). А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла еще только снизиться. Пожалуй, внезапное введение ее сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 года" ("Письмо вождям Советского Союза", 1973 г.).
По часам русской переломной жизни, ход которых Солженицын хорошо изучил, трудно было ошибиться: как за Февралем неминуемо последовал Октябрь, так и на место слетевшейся к власти образованщины, мелкой, подлой и жуликоватой, не способной к управлению, придут хищники высокого полета и обустроят государство под себя. Все это было и предвидено Солженицыным, и сказано, но бунтарь, жаждавший окончательной победы над старым противником, говорил в нем сильнее и заглушил голос провидца. "Красное колесо", прокатившееся от начала и до конца века, лопнуло... но если бы красным был в нем только обод, который можно срочно и безболезненно заменить и двигаться дальше!.. Нет, обод сросся и с осью, и со ступицей, то есть со всем отечественным ходом, с национальным телом - и рвать-то с бешенством и яростью принялись его, тело... и до сих пор рвут, густо вымазанные кровью.
Но сказанное надолго опасть и умолкнуть с переменой власти не могло. И ничего удивительного, что многое из относящегося к одной системе, само собой переадресовалось теперь на другую и даже получило усиление - вместе с усилением наших несчастий. Так и должно быть: правосудие борется с преступлением против национальной России, и новое знамя, выставленное злоумышленниками, честного судью не смутит.
"Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь - его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несет и кричит: "Я - Насилие! Разойдитесь, расступитесь - раздавлю!" Но насилие быстро стареет, немного лет - оно уже не уверенно в себе и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, непременно вызывает к себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а Ложь может держаться только насилием" (Жить не по лжи").
"Против многого в мире может выстоять ложь - но только не против искусства. А едва развеяна будет ложь, отвратительно откроется нагота насилия - и насилие дряхлое падет" (Нобелевская лекция).
Нет, это не перелицованный Солженицын - все тот же, клеймящий зло, какие бы ипостаси оно не принимало.
А вот это совсем любопытно - несмотря на некоторые старые обозначения:
"Один американский дипломат воскликнул недавно: "Пусть на русском сердце Брежнева работает американский стимулятор!" Ошибка, надо было сказать: "на советском". Не одним происхождением определяется национальность, но душою, но направлением преданности. Сердце Брежнева, попускающего губить свой народ в пользу международных авантюр, не русское" ("Чем грозит Америке плохое понимание России").
В точку.
Возвращение Александра Исаевича на многострадальную Родину, начавшееся четыре года назад, окончательно завершилось только недавно, с выходом книги "Россия в обвале" (издательство "Русский путь"), теперь можно сказать, что после 20-летнего отсутствия Солженицын снова врос в Россию и занял по принадлежащему ему нравственному влиянию, а с ним отныне совпадает и угадывание почвенных токов, первое место в России, избрав его в отдалении от всех политических партий, на перекрестке дорог, ведущих в глубинку, где остается надежда на народовластие, которое понимает он под земством. Опять же: не со всем и в последней книге можно согласиться безоговорочно. Но это отдельный разговор. Это отдельное размышление, и оно снова не обошлось бы без Толстого, который, конечно же, не добивался ни Февраля, ни Октября, но своими громогласными отрицаниями основ современной ему монархической жизни невольно подставил им плечо. Это размышление о подготавливании словно бы самим народом и словно бы вперекор своим ближайшим интересам великих нравственных авторитетов, чье влияние и учение согласуется с дальней перспективой отечественной судьбы.
80-летний юбилей А.И. Солженицына - толчок для многих серьезных размышлений о крестном пути России. Они, разумеется, каждодневны, с ними мы засыпаем и с ними просыпаемся. Но вот наступает однажды день, как этот, приподнятый над роковой обыденностью, в которую засасывает нас все больше и больше, - и тогда все видится крупней и значительней. Если рожает русская земля таких людей - стало быть, по-прежнему она корениста, и никаким злодейством, никаким попущением так скоро в пыль ее не истолочь. Если после всех трепок, учиненных ей непогодой, сумела лишь усилиться и обогатиться на поросль - отчего ж не усилиться и ей и не обратить со временем невзгоды свои в опыт и мудрость?! Есть люди, в ком современники и потомки видят родительство земли большим, чем отца с матерью.
Оттого и звучит она так: Родина, Отечество!
ПРИ ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ СОЛЖЕНИЦЫНА
ВАЛЕНТИНУ РАСПУТИНУ
На рубеже 70-х и в 70-е годы в советской литературе произошёл не сразу замеченный, беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентского вызова. Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так, как если б никакого “соцреализма” не было объявлено и диктовано, - нейтрализуя его немо, стала писать в простоте, без какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как позабыв о нём. В большой доле материал этих писателей был - деревенская жизнь, и сами они выходцы из деревни, от этого (а отчасти и от снисходительного самодовольства культурного круга, и не без зависти к удавшейся вдруг чистоте нового движения) эту группу стали звать деревенщиками. А правильно было бы назвать их нравственниками - ибо суть их литературного переворота была возрождение традиционной нравственности, а сокрушённая вымирающая деревня была лишь естественной, наглядной предметностью.
Едва ли не половину этой писательской группы мы теперь уже схоронили безвременно: Василия Шукшина, Александра Яшина, Бориса Можаева, Владимира Солоухина, Фёдора Абрамова, Георгия Семёнова. Но часть их ещё жива и ждёт нашей благодарной признательности. Первый средь них - Валентин Распутин.
Валентин Распутин появился в литературе в конце 60-х, но заметно выделился в 1974 внезапностью темы - дезертирством, - до того запрещённой и замолчанной, и внезапностью трактовки её.
В общем-то, в Советском Союзе в войну дезертиров были тысячи, даже десятки тысяч, и пересидевших в укрытии от первого дня войны до последнего, о чём наша история сумела смолчать, знал лишь уголовный кодекс да амнистия 7 июля 1945 года. Но в отблещенной советской литературе немыслимо было вымолвить даже полслова понимающего, а тем более сочувственного к дезертиру. Распутин - переступил этот запрет. Правда, и представил нам случай гораздо сложнее: заслуженный воин всю войну, три ранения, последнее особенно тяжёлое, и госпиталь в Сибири неподалеку от родных ангарских мест; других в таком виде демобилизуют или хотя бы в краткий отпуск, нашего героя - нет. А война - явно при конце, тут особенно обидна ему смерть - и он дрогнул. Тайком вернулся в окрестности своей деревни, даже родителям не открылся, только жене Настасье.
Она помогает ему таиться, через Ангару скрывно перебирается то в зимнюю мятель, то, потом, по открытой воде. Ошеломлена его побегом, но всё делает для его жизни. Изворачивается в сокрытии перед родными и окружающими. До войны прожили 4 года - не было ребёнка, и вдруг теперь она зачала. Для него - это высшая радость: “теперь... хоть завтра в землю!”, “да разве есть во всём белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребёнком?!” (Невозможнейшая фраза на советских страницах!) Для Настёны - догружается неизбежность раскрыва беременности и позора. Сюжет складывается не из издуманных поворотов, а из простых жизненных обстоятельств, как они естественно текут. Повествование не спешит, оно просочено сибирской натурой, - а события развиваются плотно. В центре всех напряжений - Настёна. Оттенки страхов, надежд, нарастающих мучений - совсем не литературными приёмами вылепляют нам яркий женский образ. Свекровь выгоняет Настёну из дому, в деревне кто любопытствует, кто насмехается, - Настёна теряет чёткость чувств и мыслей, у неё нарастает ощущение неотвратимости беды. “Казалось - это последний день, что ей ещё можно быть с людьми”. У властей возникают подозрения о дезертире, Настёна мечется предупредить мужа об угрозе, за ней и по ночной реке следят в лодках - и чтоб не выдать пребывания мужа и облегчением от невыносимого состояния - она утопляется в Ангаре, вместе с нерождённой, так желаемой, жизнью.
В повести малыми средствами выставлен нам ещё десяток характеров - и вся заброшенная сибирская деревня, где скудный вдовий праздник окончания войны - щемит, посильнее батальных сцен у других авторов. В густеющем мраке находится место и просветлённому лучу - извечной крестьянской трудовой радости сенокоса, без него была бы и Настасья неполна: она
Любила ещё до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести её сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда ещё не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; весёлой, зудливой страстью загорается душа - и вот уже идёшь не помня себя, с игривым подстёгом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаенно-родное. Любила даже гребь по мёртвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит сонное разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье.
Через два года после “Живи и помни” Распутин издаёт своё сильнейшее произведение - “Прощание с Матёрой”. Это прежде всего - смена масштаба: не частный человеческий эпизод, а крупное народное бедствие - не именно одного затопляемого, обжитого веками острова, но грандиозный символ уничтожения народной жизни. И даже ещё огромней: какой-то неведомый поворот, сотрясение - расставание и для нас всех. Распутин - из тех прозорливцев, которому приоткрываются слои бытия, не всем доступные и не называемые им прямыми словами.
От первой страницы повести мы застаём деревню уже обречённой к уничтожению - и сквозь повесть это настроение нарастает, звучит как реквием - и голосами народа, и голосами самой природы и человеческой памяти, как она сопротивляется своей кончине. Пронзительно нарастает прощание с островом, растянутое умирание, режущее сердце.
Вся ткань повести - широкий поток народного поэтического восприятия. (На её протяжении изумительно описаны, например, разные характеры дождей.) Сколько чувств - о родной земле, её вечности. Полнота природы - и живейший диалог, звук, речь, точные слова. И - настоятельный у автора мотив:
Раньче совесть сильно различали. Ежели кто норовил без её - сразу заметно. А теперь - холера разберёт, всё смешалось в одну кучу - что то, что другое. Мы теперя так и этак не своим ходом живём. Люди про своё место под Богом забыли.
Пришли пожогщики, “набежники из совхоза”, и жгут одно за другим, что пустеет. Гигантское царь-дерево Листвень, отметный знак всего острова, - только он оказался неповалимый и несжигаемый. Сжигают - “мельницу христовенькую, сколько хлебушка нам перемолола”. Вот - часть домов уже сожжена, а остальные “как вжались в землю от страха”. Последняя вспышка прежней жизни - дружная пора сенокоса, любимая деревенская пора. “Все мы - свой народ, из одной Ангары воду пили”. А теперь это сено - через Ангару, и скирдовать около многоэтажных неживых домов для бесприютных коров, обречённых под нож. Прощание с деревней, растянутое во времени, одни уже переехали и приезжают навещать остров, другие - держатся на месте до последнего. Прощаются с могилами родных, пожогщики дико налетают на кладбище, стаскивают в кучу кресты и жгут. Старуха Дарья, готовясь к неизбежному сожжению своей избы, - белит её насвежо, моет полы и набрасывает на пол травы, как под Троицу: “Сколько тут хожено, сколько топтано”. Для неё отдать избу - “как покойника в гроб кладут”. А заезжий внук Дарьи - отчуждён, беспечен к смыслу жизни, уже давно оторван от деревни. Дарья ему: “В ком душа, в том и Бог, парень”. “А что душу свою потратили - вам и дела нету”. - Теперь узнаётся: изба, если её не трогать, сама по себе горит два часа - но ещё многие дни тоскливо курится потом. А и после сожженья избы - Дарья не в силах уехать с острова, ещё с двумя-тремя старухами ютится в негодном бараке. И так - перепущен срок отъезда. Сына Дарьи на катере посылают ночью снять стариков - а тут налегает такой густой туман, какого в жизни они не видели, и найти на Ангаре знакомый остров уже не могут. Этим и оканчивается повесть - грозным символом как бы нереальности нашего бытия: существуем ли мы вообще?
Просветы метафизических сил ощущаются и в некоторых рассказах Распутина, - “Что передать вороне”:
Небо и земля - что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов.
Или в “Наташе” - загадочном рассказе об ангеле-хранителе.
Символична и повесть “Пожар”, девятью годами позже “Матёры”, - и как в прямое продолжение к ней: дальнейшая судьба людей, насильно оторванных затоплением от своего прежнего коренного бытия и на бессмысленную уничтожительную работу - валку и валку лесов, без заботы о подросте новых.
Однако сам пожар описан вовсе не символично, не с литературной красивостью, а с реальными подробностями развития пламени в разных местах здания и на разных этапах горения, - автор подробно видит и передаёт нам детали; это - взгляд и художника, но и знатока пожарного дела. Таких адекватных описаний хода пожара я в русской литературе не знаю. Надо побывать там, чтоб это узнать: “казалось, горел даже дым, которым приходилось дышать”. И эти сдвиги в сознании людей в захвате пожарной работы - до полной потери реальности, даже понимания, откуда куда бежит или что делает.
Сквозь этот ревущий огонь звучит трубный голос народного горя, - в продленье того необратимого расставания нашего с разумным бытием.
На этом пожаре, несомненном поджоге: одни жертвенно спасают гибнущее, другие - всё больше воруют спопутно, а третьи - неназванные и невидимые, получают главный доход от поджога. В перемежных с пожаром главах - видим общий рост бессовестности и воровства, скудеющий остаток добросовестных людей. “Сама земля уходит из-под ног”.
И - торжествующее, наступающее на общую жизнь новое племя - всё те же пожогщики, знающие лишь одно уничтожение, теперь - “архаровцы”, ненаказуемые уголовники на просторах страны. “Вечная тоска в глазах: куда? зачем?” - сами не знают. “Вредят всякому, кто твердит о совести”. Для них “что было нельзя - стало можно, считалось за смертный грех - почитается за ловкость”. - “И как получилось, что сдались мы на их милость?”
Повесть вышла в свет в 1985-м, проницательно показывая, какою полууголовной наша страна была к началу Перестройки, - какою вся эта шваль вот-вот развернётся господами нашей жизни.
Вослед “Пожару” цепочка рассказов Распутина протянулась и в новейшее время, отражая и новые виды лютости жизни. “Изба” - как живое существо, принявшее душу своей обиталицы-подвижницы. - “Нежданно-негаданно”. - “Новая профессия”.
Выделим гнетущий рассказ большой силы “В ту же землю” (1995). На окраине микрорайона города, в котором воздух, растительная и человеческая жизнь необратимо протравлены заводскими выпусками фтора, живёт одинокая Пашута. Последняя из сестёр, трое умерли, она взяла к себе из деревни уже беспомощную мать. У самой-то “не окоченевшее до конца тело выгибается в пояснице с сухим треском - будто косточки ломает”. А мать - “оттолкнулась последним вздохом”, вот умирает; и “такой покой был на её лице, будто ни одного, даже маленького дела она не оставила неоконченным”. И - как хоронить? В деревне бы - куда как просто. А здесь первое: все цены теперь вскружились в десятки и десятки раз, нечего и думать купить гроб. А ещё главней: мать не прописана здесь и никто не выпишет ей свидетельства о смерти; а без свидетельства - не похоронишь. Конечно, за деньги можно получить всё - но денег-то и нет. “Время настало такое провальное: все кругом, все никому не нужны”, всё, что питает добро, пошло на свалку, “жизнь открылась сплошной раной”.
Не только стало нельзя жить, но у нас отняли и сокровенное, священное право - мирно отдать прах матери-земле.
О гробе - Пашута просит работягу, в прошлом близкого ей человека. Но где и как хоронить без дозволения? “Если всё от начала до конца пошло не так, то по нетаку и это - так”. На окраине микрорайона - свалка, пустырь, он “захламлён, набит стеклом, завален банками и пакетами”; но и дальше пустыря - “зачернён кострищами, затоптан, загажен и ближний к городу лес”. Даже за тем ещё б отодвинуться дальше, но ведь так, “чтоб добираться же к могиле уже неходящими ногами”. Спутник Пашуты помогает ей найти сухую полянку дальше в лесу. Однако: запретные похороны надо и провести тайно - значит, ночью, и выкопать могилу, и беззвучно же вынести гроб - “телоприимную обитель” - по лестнице общего дома, и везти до места. Уже на рассвете закопали, под первым снежком, как бы “дарующим прощение за беззаконные действия”. На лице у пашутиного друга “странная и страшная улыбка - изломанно-скорбная, похожая на шрам, с отпечатлевшегося где-то глубоко в небе образа обманутого мира”.
Помимо художественных произведений у Распутина есть замечательные сибирские очерки - об Алтае, Лене и Русском Устьи - легендарном поселении на берегу Ледовитого океана, где колония новгородцев сохранила до нашего несчастного XX века - неповреждённые с XVI века язык и обычаи. Если вспомнить тут и Байкал, и Ангару - Распутин выступает нам как уникальный певец Сибири и средь самых стойких защитников её.
И - органичнейшие черты его творчества: во всём написанном Распутин существует как бы не сам по себе, а в безраздельном слитии:
С русской природой и
- с русским языком.
Природа у него - не цепь картин, не материал для метафор, - писатель натурально сжит с нею, пропитан ею как часть её. Он - не описывает природу, а говорит её голосом, передаёт её нутряно, тому множество примеров, здесь их не привести. Драгоценное качество, особенно для нас, всё более теряющих живительную связь с природой.
Подобно тому - и с языком. Распутин - не использователь языка, а сам - живая непроизвольная струя языка. Он - не ищет слов, не подбирает их, - он льётся с ними в одном потоке. Объёмность его русского языка - редкая средь нынешних писателей. В “Словарь языкового расширения” я от Распутина не мог включить и сороковой части его ярких, метких слов.
А если надо всем сказанным здесь мы не упустим и такие качества Валентина Распутина, как сосредоточенное углубление в суть вещей, чуткую совесть и ненавязчивое целомудрие, столь редкое в наши дни, то изо всего и составится образ писателя, которому наше жюри вручает сегодня премию - с самым радушным чувством.
«Многоуважаемый Александр Исаевич. Очень благодарен вам за приглашение на встречу. К огромному моему сожалению, быть в Иркутске в дни вашего пребывания, в связи с писательским съездом, не смогу. Надеюсь на встречу позднее. Искренне, Валентин Распутин».
Это письмо он написал Солженицыну 11 июня 1994 года. В те дни Александр Исаевич вернулся на родину после двадцатилетнего изгнания, проехав через весь Дальний Восток и Сибирь. Иркутск стал четвертой остановкой на пути Солженицына в Москву, где в это время проходил IX съезд Союза писателей России. Было избрано новое правление Союза, в которое вошел и Валентин Распутин. Его имя замкнуло список ушедших из жизни писателей-деревенщиков: Василия Шукшина, Бориса Можаева, Виктора Астафьева, Владимира Солоухина, о которых не раз писал А.И. Солженицын, предпочитая называть их нравственниками.
Переписка между А. Солженицыным и В. Распутиным началась в 1994 году, и сегодня она доступна широкому кругу читателей. Письма впервые опубликованы в пятом выпуске альманаха «Солженицынские тетради». Несколько экземпляров подарены Рязанской областной библиотеке имени Горького вдовой писателя, Натальей Дмитриевной. Письма были найдены в архиве Солженицына в Троице-Лыкове. После кончины Валентина Распутина его семья передала в этот архив копии трех писем Александра Исаевича 1995–2000 годов. Они-то и стали новым свидетельством творческих и человеческих отношений двух писателей.
– Та форма, в которой вели переписку два писателя, доставила мне эстетическое удовольствие, тем более в наше время, когда люди общаются через СМС-сообщения. Каким взаимным уважением, человечностью, деликатностью отличаются письма Солженицына к Распутину и Распутина к Солженицыну! Заметьте, писатели не делали друг другу комплименты. Взаимная оценка творчества была объективной, каждый понимал, что из себя представляет собеседник, – делится мнением Александр Сафронов, доцент кафедры литературы, руководитель Научно-просветительского центра по изучению наследия А.И. Солженицына РГУ имени С.А. Есенина. – Солженицын получил в свое время Нобелевскую премию. А у Распутина ее не было. За последние десятилетия авторитет этой награды низко упал. И мне кажется, чтобы спасти ее положение и поднять престиж, премию надо было присудить Валентину Распутину.
В 2000 году писатель стал лауреатом премии А.И. Солженицына «за пронзительное выражение поэзии и трагедии народной жизни». Александр Исаевич высоко ценил литературный труд Валентина Григорьевича: «Распутин – из тех прозорливцев, которому приоткрываются слои бытия, не всем доступные и не называемые им прямыми словами… Мы не упустим и такие качества Валентина Распутина, как сосредоточенное углубление в суть вещей, чуткую совесть и ненавязчивое целомудрие, столь редкое в наши дни».
По словам кандидата филологических наук, доцента РГУ имени С.А. Есенина Регины Соколовой, Распутин и Солженицын всегда прислушивались к идее почвенников XIX века. Это движение утверждало, что почва, то есть народ, – основа социального, духовного развития России. Только народ сохраняет истинное православие, идеи добра, справедливости. В.Г. Распутин был главным идеологом современного почвенничества. Он написал «Мой манифест», в котором не согласился с поминками по русской литературе.
– Наверно, измельчала литературная критика, которая превратилась в рекламную аннотацию. Ее представители позволяли себе рассуждать так: «Нет, критику я не пишу, потому что нем», или «сто лет назад футуристы сбрасывали с парохода современности классиков, а сегодня нам сбрасывать некого». А Распутин сказал, что литература русская жива и лучшие ее представители – почвенники, потому что они считывают судьбу русского народа в очень сложное время. С этим согласился и Солженицын в одном из своих писем Распутину, – отмечает Регина Соколова.
Западная культура, большой город – вот источники влияний на духовность русского народа. Почвенники пытались противостоять эгоизму, алчности рынка, защитить людей от пошлости. Так, крестьяне в рассказе В. Распутина «Нежданно-негаданно» даже отказываются от телевизора: «Крапиву посади перед телевизором – и крапива сей же момент под обморок! А уж что там нагишом выделывают!.. Это мы, как червяки, глядим, а растения... она чувствительная. Она и «караул!» закричать не может, а то бы они все враз вскричали...»
Солженицын разделял чувства Распутина и писал ему в письме: «Делю Вашу щемящую тревогу за духовное и нравственное состояние нынешнего русского народа и само выживание его. Правители, объятые алчным властолюбием либо ненасытным обогащением, думают об этом менее всего. Не смущайтесь и тем, что Ваши общественные выступления вызывали поток политической грязной брани по закупленному эфиру, от ничтожных людей, ищущих вовсе не сохранения России, да часто и живущих вне ее. После изжитых нами грозных десятилетий – наступившее время еще по-новому мерзко и мрачно для всех нас. И уже не хватает нашего прозора в будущее, а лишь – как Бог даст. Остается только прилагать доступные нам скромные наши усилия».
Распутин говорил о Солженицыне как о справедливце, посвятил ему статьи «Жить по правде», «Он вернулся на родину как апостол» и с большим интересом следил за публицистическими работами Александра Исаевича.
По мнению В. Распутина, писатель должен стать эхом народа и «небывавшее выразить с небывалой силой, в которой будут и боль, и любовь, и прозрение, и обновленный в страданиях человек… Литература может многое, это не раз доказывалось отечественной судьбой. Может – худшее, может – лучшее, в зависимости от того, в чьих она руках. Но у национальной литературы нет и не может быть другого выбора, как до конца служить той земле, которой она была взращена».
Вероника Шелякина, Рязанские ведомости
Валентин Распутин
Жить по правде
Статья Валентина Распутина, посвященная 80-летию Александра Солженицына, к сожалению, поступила к нам уже после того, как был сверстан предыдущий субботний номер. Но разве она потеряла свою актуальность? Ведь значимость большого писателя определяется не юбилейными датами. Нашему читателю, без сомнения, будет интересна оценка, которую дает наш знаменитый земляк творчеству Александра Солженицына.
Как и во всякой большой литературе, в русской литературе существует несколько пород таланта. Есть порода Пушкина и Лермонтова — молодого, искрящегося, чувственного легкокрылого письма, дошедшая до Блока и Есенина; есть аксаковско-тургеневская, вобравшая в себя Лескова и Бунина, необыкновенно теплого, необыкновенно русского настроения и утраченного уже теперь острого обоняния жизни; их зачатие и вынашивание имеют какое-то глубинное, языческое происхождение, из самого нутра спрятанного в степях и лесах национального заклада. Есть и другие породы, куда встанут и Гоголь с Булгаковым, и Некрасов с Твардовским, и Достоевский, и Шолохов, и Леонов. И есть порода Державина - богатырей русской литературы, писавших мощно и гулко, мысливших всеохватно, наделенных к тому же богатырским запасом физических сил. Сюда нужно отнести Толстого и Тютчева. Здесь же в ХХ веке по праву занял свое место Солженицын.
Почти все написанное А.И. Солженицыным имело огромное звучание. Первую же работу никому тогда, в 1962 году, не известного автора читала вся страна. Читала взахлеб, с удивлением и растерянностью перед явившимся вдруг расширением жизни и литературы, перед расширением самого русского языка, зазвучавшего необычно, в самородных формах и изгибах, которые еще не ложились на бумагу. Приоткрылся незнакомый, отверженный мир, находившийся где-то за пределами нашего сознания, вырванный из нормальной жизни и заселенный на островах жизни ненормальной - тот мир, откуда вышел Иван Денисович Шухов, маленький непритязательный человек, один из тьмы тысяч. И вышел-то на день один из тьмы своих дней между жизнью и смертью. Но этого оказалось достаточно, чтобы многомиллионный читатель обомлел, признавая его и не признавая, обрушив на него лавину сострадания вместе с недоверием, вины и одновременно тревоги.
Вести, литературного характера тоже, доходили из того мира и прежде, но они были разрозненными, прерывистыми, невнятными, как в азбуке Морзе, сигналами, ключом к расшифровке которых владели по большей части побывавшие там. Иван же Денисович, в отпущенный ему день выведенный из барака на работу больным и в работе поправившийся и даже воодушевившийся, ничего от нас не потребовавший, ничем не укоривший, а только представший таким, какой он есть, оказался соразмерен нашему невинному сознанию и вошел в него без усилий. Вольно или невольно, автор поступил предусмотрительно, подготовив вкрадчивым и тароватым Шуховым, ни в чем не посягнувшим на читательское благополучие, пришествие «Архипелага ГУЛАГ». Без Шухова столкновение с ГУЛАГом было бы чересчур жестоким испытанием. Испытание - читать? «А испытание претерпевать, оказаться внутри этой страшной машины?» - вправе же мы сами себя и спросить. Да, это несопоставимые понятия, существование на разных планетах. И тем не менее испытание собственной шкурой не отменяет «переводного» испытания, испытания свидетельством. Обмеренный, исчисленный, многоголосый и неумолчный ГУЛАГ в натуральную величину и «производительность» - он и после Ивана Денисовича для многих явился чрезмерным ударом; не выдерживая его, они оставляли чтение. Не выдерживали - потому что это был удар, близкий к физическому воздействию, к восприятию пытки, выдыхаемой жертвами. Воздействие «Иваном Денисовичем» было не слабей, но другого - нравственного - порядка, вместе с болью оно давало и утешение. Чтобы прийти в себя после «Архипелага», следовало снова вернуться к «Ивану Денисовичу» и почувствовать, как мученичество от карающей силы выдавливает исцеляющее слезоточение.
Сразу после «Ивана Денисовича» - рассказы, и среди них «Матренин двор». И там и там в героях поразительная, какая-то сверхъестественная цепкость к жизни и вообще свойственная русскому человеку, но мало замечаемая, не принимаемая в расчет при взгляде на его жизнеспособность. Когда терпение подбито цепкостью, оно уже не слабоволие, с ним можно многое перемочь. Солженицын и сам, не однажды приговоренный, явил это качество в наипоследнем истяге, говоря его же словом, когда и свет мерк в глазах, снова и снова подниматься на ноги. Л.Н. Толстой словно бы и родился в пеленках великим. А.И. Солженицыну к своему величию пришлось продираться слишком издалека. «Не убьет, так пробьется» - вот это для него, для русского человека! - и давай его бить-колотить по всем ухабам, и давай его охаживать из-за каждого угла, и давай его на такую дыбу, что и небо с овчинку! Вот по такой дороге и шел к своему признанию Александр Исаевич. Выжил, научился держать удар, приобрел науку разбираться, что чего стоит, - после этого полной мерой дары во все «емкости», никаких норм.
«Матренин двор» заканчивается словами, которые почти сорок лет остаются на наших устах:
«Все мы жили рядом с ней (с Матреной Васильевной. - В.Р.) и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит ни село. Ни город. Ни вся земля наша».
Едва ли верно, как не однажды высказывалось, будто вся «деревенская» литература вышла из «Матрениного двора». Но вторым своим слоем, слоем моих сверстников, она в нем побывала. И уж не мыслила потом, как можно, говоря о своей колыбели - о деревне, обойтись без праведника, сродни Матрене Васильевне. Их и искать не требовалось - их нужно было только рассмотреть и вспомнить. И тотчас затеплялась в душе свечечка, под которой так сладко и отрадно было составлять житие каждой нашей тихой родины, и вставали они, старухи и старики, жившие по правде, друг после дружки в какой-то единый строй вечной подпоры нашей земле.
Кроме этой заповеди - жить по правде, - другого наследства у нас остается все меньше. А этим - пренебрегаем.
У крупных фигур свой масштаб деятельности и подъемной силы. Не поддается понимаю, как сумел Солженицын еще до изгнания, в весьма стесненных условиях, собрать, обработать и ввести в русло книги все то огромное и сжигающее, составившее «Архипелаг ГУЛАГ»! И откуда брались силы уже в Вермонте совладать с горой материала, надо думать, нескольких архивных помещений для «Красного колеса»! Успевая при этом вести еще публицистическое путеводство для России и Запада, успевая составлять и редактировать две многотомные библиотечные серии по новейшей русской истории! Тут годится только одно сравнение - с «Войной и миром» и Толстым. Солженицына с Толстым роднит многое. Одинаковая глыбастость фигур, огромная воля и энергия, эпическое мышление, потребность как у одного, так и у другого через шестьдесят примерно лет отстояния от исторических событий обратиться к закладным судьбоносным векам начала своего века. Это какое-то мистическое совпадение. Огромная популярность в мире, гулкость статей, звучание на всех материках. Один отлучен от церкви, другой от Родины. Помощь голодающим и помощь политзаключенным, затем литературе. Оба - великие бунтари, но Толстой создал свое бунтарство «на ровном месте», в условиях личного и отеческого (относительно, конечно) благополучия, Солженицын весь вышел из бунтарства, его в нем взрастила система. Солженицына судьба резко бросала с одной крутизны на другую, у Толстого биография после кавказской кампании взяла тихую гавань в Ясной Поляне и вся ушла в сочинительство и духовную жизнь. Но и после этого: повороты, приближающие их друг к другу. Солженицын в Америке погружается в затворничество, Толстой перед смертью совершает совсем не старческий поступок вечного бунтаря - свой знаменитый уход из Ясной Поляны.
И самое главное: «Лев Толстой как зеркало русской революции» и Александр Солженицын как зеркало русской контрреволюции спустя семьдесят лет после революции.
Редкий человек, ставя перед собой непосильную цель, доживает до победы. Александру Исаевичу такое выпало. Объявив войну могущественной системе, на родине призывая подданных этой системы жить не по лжи, а в изгнании постоянно призывая Запад усиливать давление на коммунизм, едва ли Солженицын мог рассчитывать при жизни на что-либо еще, кроме идеологического ослабления и отступления коммунизма на более мягкие позиции. Случилось, однако, большее и, как вскоре выяснилось, худшее: система рухнула. История любит сильные и быстрые ходы, на обоснование которых затем приносятся огромные жертвы. Так было в 1917-м году, так произошло и на этот раз.
Боясь именно такого исхода в будущем, Солженицын не однажды предупреждал: «... но вдруг отвались завтра партийная бюрократия... и разгрохают наши остатки еще в одном феврале, в еще одном развале» («Наши плюралисты», 1982 г.). А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла еще только снизиться. Пожалуй, внезапное введение ее сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 года» («Письмо вождям Советского Союза», 1973 г.).
По часам русской переломной жизни, ход которых Солженицын хорошо изучил, трудно было ошибиться: как за Февралем неминуемо последовал Октябрь, так и на место слетевшейся к власти образованщины, мелкой, подлой и жуликоватой, не способной к управлению, придут хищники высокого полета и обустроят государство под себя. Все это было и предвидено Солженицыным, и сказано, но бунтарь, жаждавший окончательной победы над старым противником, говорил в нем сильнее и заглушил голос провидца. «Красное колесо», прокатившееся от начала и до конца века, лопнуло... но если бы красным был в нем только обод, который можно срочно и безболезненно заменить и двигаться дальше!.. Нет, обод сросся и с осью, и со ступицей, то есть со всем отечественным ходом, с национальным телом - и рвать-то с бешенством и яростью принялись его, тело... и до сих пор рвут, густо вымазанные кровью.
Но сказанное надолго опасть и умолкнуть с переменой власти не могло. И ничего удивительного, что многое из относящегося к одной системе, само собой переадресовалось теперь на другую и даже получило усиление - вместе с усилением наших несчастий. Так и должно быть: правосудие борется с преступлением против национальной России, и новое знамя, выставленное злоумышленниками, честного судью не смутит.
«Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь - его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несет и кричит: «Я - Насилие! Разойдитесь, расступитесь - раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного лет - оно уже не уверенно в себе и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, непременно вызывает к себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а Ложь может держаться только насилием» (Жить не по лжи»).
«Против многого в мире может выстоять ложь - но только не против искусства. А едва развеяна будет ложь, отвратительно откроется нагота насилия - и насилие дряхлое падет» (Нобелевская лекция).
Нет, это не перелицованный Солженицын - все тот же, клеймящий зло, какие бы ипостаси оно не принимало.
А вот это совсем любопытно - несмотря на некоторые старые обозначения:
«Один американский дипломат воскликнул недавно: «Пусть на русском сердце Брежнева работает американский стимулятор!» Ошибка, надо было сказать: «на советском». Не одним происхождением определяется национальность, но душою, но направлением преданности. Сердце Брежнева, попускающего губить свой народ в пользу международных авантюр, не русское» («Чем грозит Америке плохое понимание России»).
Возвращение Александра Исаевича на многострадальную Родину, начавшееся четыре года назад, окончательно завершилось только недавно, с выходом книги «Россия в обвале» (издательство «Русский путь»), теперь можно сказать, что после 20-летнего отсутствия Солженицын снова врос в Россию и занял по принадлежащему ему нравственному влиянию, а с ним отныне совпадает и угадывание почвенных токов, первое место в России, избрав его в отдалении от всех политических партий, на перекрестке дорог, ведущих в глубинку, где остается надежда на народовластие, которое понимает он под земством. Опять же: не со всем и в последней книге можно согласиться безоговорочно. Но это отдельный разговор. Это отдельное размышление, и оно снова не обошлось бы без Толстого, который, конечно же, не добивался ни Февраля, ни Октября, но своими громогласными отрицаниями основ современной ему монархической жизни невольно подставил им плечо. Это размышление о подготавливании словно бы самим народом и словно бы вперекор своим ближайшим интересам великих нравственных авторитетов, чье влияние и учение согласуется с дальней перспективой отечественной судьбы.
80‑летний юбилей А.И. Солженицына - толчок для многих серьезных размышлений о крестном пути России. Они, разумеется, каждодневны, с ними мы засыпаем и с ними просыпаемся. Но вот наступает однажды день, как этот, приподнятый над роковой обыденностью, в которую засасывает нас все больше и больше, - и тогда все видится крупней и значительней. Если рожает русская земля таких людей - стало быть, по-прежнему она корениста, и никаким злодейством, никаким попущением так скоро в пыль ее не истолочь. Если после всех трепок, учиненных ей непогодой, сумела лишь усилиться и обогатиться на поросль - отчего ж не усилиться и ей и не обратить со временем невзгоды свои в опыт и мудрость?! Есть люди, в ком современники и потомки видят родительство земли большим, чем отца с матерью.
Оттого и звучит она так: Родина, Отечество!
Илиодор (Труфанов)
Я привел часть документа, опубликованного в книге Олега Платонова «Жизнь за царя (Правда о Григории Распутине)», в которой впервые вводится в оборот большое число архивных материалов. К сожалению, предвзятым отношением к им же публикуемым документам автор в значительной мере обесценивает собственный труд. Всякую информацию, не подтверждающую высшее благородство и святость Распутина, он дезавуирует как клеветническую, а носителей этой информации клеймит как врагов России, масонов, заговорщиков и просто негодяев, причем, его праведный гнев не ведает пределов. Так, дабы не оставить камня на камне от разоблачающей старца книги монаха-расстриги Илиодора (Труфанова), О. Платонов делает его… «большевиком-чекистом», уточняя для пущей убедительности: «Предложение стать чекистом, по словам того же Труфанова, сделал ему сам Дзержинский, который привлекал его к выполнению самых „деликатных“ (а значит, самых грязных и кровавых) поручений».
Труфанов был аморальным типом, но как он мог стать сотрудником ВЧК, если это почтенное заведение возникло в советской России в декабре 1917 года, а он бежал из царской России в 1914-м (в Норвегию, откуда позднее перебрался в США). Не хочет ли О. Платонов сказать, что глава ВЧК специально ездил в Нью-Йорк, чтобы завербовать Труфанова? Мне приходилось писать о Дзержинском и для этого изучить широкий круг материалов: никаких данных о поездке председателя ВЧК за океан не имеется. Зачем же понадобилась автору эта распутинщина?
За последние годы Олег Платонов издал горы «трудов», разоблачающих «жидо-масонский заговор против России», - во всем причудливом разнообразии вариантов этого «заговора». На некоторых его творениях я кратко останавливался в моей книге «Растление ненавистью». Житие Распутина изготовлено им по такой же методе, как и остальные произведения. Многочисленные выписки из опубликованных и неопубликованных источников, частоколы библиографических и архивных ссылок, объемистые приложения, в которых перепечатывается историко-литературный хлам столетней и двухсотлетней давности, призваны придать работе вид научной основательности. Но это только обрамление, упаковка. А внутри - псевдо-патриотическая труха. Цель нового сочинения - вызвать ненависть к евреям, масонам и иным «врагам» России, а реальный результат - глумление над Россией. Чего стоит само название его книги, ставящее Гришку Распутина (Распутина!!) в один ряд с легендарным национальным героем Иваном Сусаниным!
Не проводя параллелей между О. Платоновым с А. И. Солженицыным, я не могу не обратить внимание на то, как сходятся крайности. В книге Солженицына Распутин - величина отрицательная, и он «облеплен» евреями. У Платонова старец - величина положительная, и евреи «облепляют» его главных ниспровергателей. Самый злостный из них - почти столь же злостный, как расстрига-чекист Труфанов, - журналист В. Б. Дувидзон (тот, кто в книге Матрены Распутиной назван Давидсоном; из мимолетного ухажера Матрены О. Платонов превращает его в ее жениха).
Полицейское донесение об инциденте в московском ресторане «Яр» Платонов, конечно, объявляет сфальсифицированным, причем по заданию Джунковского, который доложил о нем царю не потому, что был обязан к тому по должности, а потому, что был масоном и имел цель - погубить Россию и ее праведника. Спорить с этим нет необходимости, ибо сам автор признает, что тайная принадлежность Джунковского к масонству раскрылась уже после революции; царь о его «подрывной» деятельности знать не мог. Однако результатом доклада Джунковского о распутинском непотребстве стала… отставка Джунковского. Снова сработала чудодейственная сила старца!
Великий князь Николаша был куда более твердым орешком, чем какой-то шеф корпуса жандармов, но когда победные реляции с фронта сменились известиями о беспорядочном отступлении, Распутин и его команда поняли, что пробил час рассчитаться и с ним.
Александра Федоровна стала внушать августейшему супругу, что во всех фронтовых неудачах виноват Верховный. А все потому, что он - враг «нашего Друга» и друг «наших врагов». Это и подтвердилось - хотя бы тем, что когда пала Варшава и германские войска подступили к городу Слониму, а вблизи, в Жировицком монастыре, томился на положении узника епископ Гермоген, то великий князь отправил его в Москву, да еще подчеркнул свое почтение к нему и его сану, выделив для переезда два отдельных вагона. «Папе» этот эпизод был представлен как заигрывание с оппозиционными кругами, осуждавшими незаконную (через голову Синода) опалу популярного епископа. А дальше пошли разговоры о нелояльности великого князя, о подготовке дворцового переворота. Кем-то были отпечатаны тысячи экземпляров портрета главнокомандующего с подписью «Николай III».
Имея под рукой многомиллионное войско, Верховный мог сковырнуть императора одним движением пальца! Требовалось срочно лишить его такой возможности. Но кого поставить на его место? Любой генерал на посту главнокомандующего будет столь же опасен! Словом, «папа» позволил «маме» и ее (их!) духовному руководителю убедить себя, что у него нет иного выхода, как взвалить на свои плечи еще и это бремя!
Когда решение государя - еще не объявленное стране, но уже бесповоротное - было сообщено на заседании Совета министров, оно вызвало бурю эмоций. Министры вовсе не ждали столь радикальной перемены. Они добивались замены начальника штаба, надеясь, что на месте заносчивого и бездарного Янушкевича появится генерал, с которым можно работать. А великий князь в роли главнокомандующего их вполне устраивал.
Военный министр Поливанов назвал решение государя «непоправимым бедствием». С ним согласились все министры, имевшие собственный голос. Благодаря тому, что царю пришлось вслед за Сухомлиновым отстранить еще нескольких наиболее одиозных министров - Щегловитова, Маклакова, Саблера (обер-прокурора Синода), в правительстве появились независимые голоса (увы, ненадолго!). Новые министры понимали, хотя об этом не говорилось прямо, что роковое решение государя вызвано влиянием «темных сил».
Премьер Горемыкин предупреждал, «что любая попытка переубедить государя будет безуспешной: „Сейчас же, когда на фронте почти катастрофа, его величество считает священной обязанностью русского царя быть среди войск и с ними либо победить, либо погибнуть. При таких чисто мистических настроениях вы никакими доводами не уговорите государя отказаться от задуманного им шага. Повторяю, в данном решении не играют никакой роли ни интриги, ни чьи-нибудь [Распутина!] влияния“».
Но для министров не было секретом, что сам Горемыкин - креатура Распутина и ни на что, кроме угодничества перед теми, кто выше и сильнее его, не способен.
Некоторые министры на ближайших верноподданнических докладах пытались воздействовать на царя, но наталкивались на упрямое молчание. Тогда они, по словам Каткова, «сделали нечто неслыханное: подписали коллективное письмо, в котором еще раз умоляли государя не совершать этот ужасный шаг, угрожающий царю и династии».
Эти «отчаянные попытки министров» Катков считает непонятными, но они более, чем понятны. Великий князь Николай Николаевич как кадровый военный высокого ранга разбирался в своем деле лучше, чем государь, так что принятие императором верховного командования не сулило фронту ничего хорошего, ответственность же за новые поражения ложилась бы непосредственно на государя, то есть каждая военная неудача становилась бы прямым ударом по престижу власти, и без того крайне шаткой. А, главное, занимаясь фронтом, государь должен был меньше внимания уделять тылу, а это вело к еще большему вмешательству царицы и ее «старца».