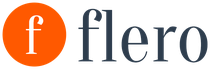© Георгий Владимов, наследники, 2016
© Валерий Калныньш, макет и оформление, 2016
© «Время», 2016
Марина Владимова
Мой отец – Георгий Владимов
Меня попросили написать об отце. К сожалению, мы были вместе очень мало – всего каких-то десять лет. Все годы меня не покидало чувство, что надо записывать все, о чем рассказывал отец, что это слишком значимо: память человеческая – штука ненадежная. Не записала. Теперь пишу по памяти, жалкие кусочки того, что запечатлелось, – но спасибо, что остались хоть они.
Как и когда мы с ним познакомились? Звучит, конечно, невероятно, но соответствует действительности – мы узнали друг друга только в 1995 году, на вручении отцу литературной премии «Русский Букер», когда мне было уже тридцать три года. А до этого были только письма. Письма в Германию из Москвы и обратно.
Как отец оказался в Германии?
В 1983 году по приглашению Генриха Бёлля отец уехал читать лекции в Кёльн. К тому времени уже лет десять в России у него ничего не издавалось. Ранее он стал председателем «Международной амнистии», писал письма в защиту Андрея Синявского и Юрия Даниэля, дружил с Андреем Сахаровым, Еленой Боннэр, Василием Аксеновым, Владимиром Войновичем, Беллой Ахмадуллиной, Фазилем Искандером, Булатом Окуджавой, Виктором Некрасовым, был знаком с Александром Солженицыным, Александром Галичем, Владимиром Максимовым, Сергеем Довлатовым, Юрием Казаковым, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким и многими другими. Постепенно он стал жить «поперек», а таких вещей советская власть спокойно выдержать, а уж тем более простить – не могла.
Потихоньку его выживали, травили: исключили из Союза писателей, куда он был принят еще в 1961 году; затем стали публиковать клеветнические статьи в «Литературной газете» (главный рупор СП тех лет), которые радостно приветствовали некоторые «писателя» (так их называл отец). А потом устроили слежку за его квартирой и гостями, ее посещавшими. Об этом отец пишет подробно в своем рассказе «Не обращайте вниманья, маэстро!».
Как могли ему простить глубочайшую внутреннюю независимость и самодостаточность? Как-то после своего возвращения в Россию он сказал мне: «Ты знаешь, не пойду я на это сборище, терпеть не могу любые тусовки, зачем тратить на это время? Писатель должен писать, а не болтать и тусоваться. Я всегда считал, что не нужно входить ни в какие партии и объединения, все это ерунда, – поэтому я всегда был беспартийным и свободным».
Так отец ответил на мой упрек – я упрекала его в том, что он не идет на какой-то очередной литературный вечер, где собиралась литературная элита тех лет и куда его пригласили заранее для вручения статуэтки Дон Кихота – «символа чести и достоинства в литературе».
Я же, испорченное дитя советской действительности, полагала, что там могут встретиться «полезные люди», которые помогут ему получить от государства хотя бы маленькую квартирку.
Ведь получил же Владимир Войнович прекрасную четырехкомнатную квартиру в Безбожном переулке по указу Михаила Горбачева!
Как могли ему простить, к примеру, дружбу с опальным Сахаровым, когда от того знакомые отшатывались, как от чумного? Отец старался хоть чем-то помочь в те времена Андрею Дмитриевичу, иногда выступая даже в качестве его водителя. Вспоминается забавный (это он сейчас забавный!) случай, рассказанный отцом: во время поездки (кажется, в Загорск) внезапно оторвалась дверца любимого старенького отцовского «запорожца». Причем на полном ходу… Все замерли. А Сахаров всю оставшуюся дорогу невозмутимо держал злополучную дверцу, продолжая разговор на какую-то интересную для него тему.
С этим «запорожцем» была связана еще одна, более опасная история. Однажды во время загородной поездки мотор у машины вообще заглох, а когда отец заглянул в ее нутро, то обнаружил, что в бак для топлива засыпан почти килограмм сахарного песка, отчего машина и отказывалась ехать. Отец был уверен, что это не случайность, это сделано заинтересованными сотрудниками «бугра», как называли тогда вездесущую организацию, отвечающую за государственную безопасность СССР, но, конечно, прямых доказательств у него не было. С огромным трудом ему удалось очистить бак от этой гадости…
В 1981 году после допросов на Лубянке у отца случился первый инфаркт, потом новые допросы и намек на то, что допросы возобновятся. Все могло кончиться посадкой (лексикон тогдашних диссидентов). В это время отец уже начал писать «Генерала и его армию». Надо было спасать свое дело, свою жизнь. Спасибо Бёллю!
Но, уезжая из страны, отец не думал, что уезжает надолго, максимум на год. Через два месяца после приезда в Германию отец и Наташа Кузнецова (его вторая жена) по телевизору услышали указ Андропова о лишении его гражданства. Кооперативную квартиру Наташиной мамы они продали перед отъездом в Германию, а квартиру отца правление кооператива продало само, не спрашивая на то его разрешения.
Через друзей в издательстве «Текст», в котором выходила повесть отца «Верный Руслан», я узнала его немецкий адрес. Написала ему. Написала, что мне от него ничего не нужно – я уже вполне состоявшийся человек, врач, учусь в аспирантуре, есть квартира, друзья, но как это странно – на такой маленькой планете Земля живут два родных человека и ничего не знают друг о друге. Отец ответил, мы начали переписываться. В 1995 году он приехал в Москву на вручение Букера за роман «Генерал и его армия». Номинировал его журнал «Знамя», где печатались главы романа. Отец был очень благодарен сотрудникам «Знамени» за то, что именно они первыми способствовали возвращению его творчества на Родину. Он хотел, чтобы и последний его роман «Долог путь до Типперэри» был напечатан у них, журнал несколько раз давал анонс этому произведению. Увы! Только первая часть романа была напечатана, уже после смерти отца. Другие остались в замыслах; кое-что он рассказал мне.
Отец позвал на вручение премии и меня. Перед этим я побывала у него в гостях – в квартире Юза Алешковского, который пригласил отца пожить у него на все время его пребывания в Москве.
Своей квартиры у отца больше не было. Он остался бездомным. В 1991 году Горбачев своим указом вернул ему гражданство, но не жилье… Правда, в 2000 году Международный литературный фонд писателей предоставил отцу в аренду дачу в Переделкине. Отец очень любил эту не совсем свою дачу, но Господь мало позволил ему наслаждаться покоем и счастьем на Родине.
До этого дача много лет простояла пустая, потихоньку осыпаясь и рушась, в ней постоянно что-то где-то подтекало; отец смеялся и говорил, что живет в «Петергофе с большим количеством фонтанов». Это был двухэтажный кирпичный дом, больше смахивающий на барак, с четырьмя подъездами. Рядом с подъездом отца были подъезды, где жили Георгий Поженян, дочь Виктора Шкловского с мужем, поэтом Панченко. Третьего соседа я не помню.
История дачи была романтичной и печальной одновременно. Оказалось, что этот писательский дом построен на месте дачи актрисы Валентины Серовой. Ее дача была окружена небольшим садиком, сохранился маленький прудик, в котором, по преданию, она любила плавать. Отец говорил, что представляет себе, как Серова перед спектаклями купается в пруду и что-то тихо напевает. Тогда он и рассказал мне историю романа Серовой и маршала Рокоссовского, во время которого Сталина якобы спросили, как относиться к самому факту этой связи (оба были женаты). Сталин ответил коротко и исчерпывающе: «Завидовать!».
После развода Серовой и Симонова дача пришла в запустенье, Литфонд снес старый дом, построив дачу для писателей.
Во времена отца сад невероятно разросся, в него выходила дверь кухни с террасой. Стояли высокие темные деревья, трава заполонила все пространство. Пруд был затянут густой зеленой тиной, было мрачновато, летали страшно прожорливые комары. Отец все пытался как-то справиться с запустением: убрал сгнившие ветки, сломанные деревья, подстриг кусты, скосил кое-где траву, в окна его кабинета стало заглядывать солнце.
Напротив своих окон он расчистил кусочек земли, на котором попытался разбить огород – посадил укроп, редиску и салат. В свой последний год в России, уже слабый и смертельно больной, отец с гордостью показывал мне пробивающиеся ростки, предвкушая урожай. Увы! Он уехал в Германию, так и не дождавшись его… Но немного радости ему садик подарил – в последний год отец не мог, да и не хотел писать. Ему нравилось возиться с землей да потихоньку разбирать какую-то деревянную «халабуду» (слово отца) позади дома, на месте которой он мечтал построить гараж с ямой.
За воротами, на входе сохранилась двухэтажная кирпичная сторожка, где, видимо, в свое время сидела охрана, решающая, кого можно допустить пред светлые очи Серовой и Симонова. Вокруг всей дачи шла крепостная стена, а прямо напротив подъезда отца в ней открывалась чудесная таинственная дверь, окруженная высокими деревьями и душистыми травами. Пели соловьи, иногда вторя колокольному звону – через дорогу находилась дача Патриарха со старенькой переделкинской церковью.
В первый год, получив пустую дачу, где не было ничего, кроме стен и старой, сгнившей кухонной мебели, отец с энтузиазмом взялся ее обустраивать. В свой кабинет купил большой письменный стол с удобным креслом (а что еще нужно писателю!), диванчик, пятирожковую люстру (в доме было темновато). В две другие комнаты поставил два дивана для гостей и шкаф-купе, который он сам собрал. Отец очень любил все делать своими руками, получая от этого, похоже, не меньше удовольствия, чем от писательского труда.
Я подарила ему «вольтеровское» кресло – оно обосновалось в коридоре на первом этаже, отец любил сидеть в нем, разговаривая по телефону.
На кухне отец установил стенку, холодильник, повесил низкую плетеную люстру, поставил стол с длинными деревянными скамейками, на которых мало кто успел посидеть – отец прожил на даче всего четыре сезона…
На террасе, куда выходила дверь кухни, отец поставил маленький мангал, и несколько раз жарил на нем шашлык, попивая водочку с соседом-приятелем, чудесным поэтом Григорием Поженяном. Именно благодаря Поженяну отец и получил дачу – однажды он приехал к нему в гости в Переделкино и был очарован красотой, тишиной и покоем этого места. Обратился за помощью в Международный литфонд, ему не отказали; большую роль в этом сыграл Поженян, замолвивший словечко.
Мы встречали Новый 2000-й год вместе с Поженяном и его женой, в большой компании. Чудесный был Новый год! Поженян читал свои стихи, много рассказывал о себе – рассказчик он был не менее талантливый, чем поэт. Моя память сохранила только некоторые фрагменты. Например, его рассказ об освобождении Одессы, где он воевал (написав потом сценарий замечательного фильма «Жажда»), а потом – как обнаружил памятник погибшим освободителям города и нашел там свою фамилию (его по ошибке тоже сочли погибшим). Или рассказ о том, как за «пьянку и аморальное поведение» в студенческие времена его с позором выгнали из Литературного института, грозно сказав: «Чтобы ноги вашей не было в стенах нашего заведения!» После чего он вошел в институт на руках, не нарушив формально предписания!
Поженян рассказал, что Юрий Олеша ласково называл его в письмах «мой дорогой бочонок поэзии». Он такой и был – маленький, толстенький, шумный, очень уютный, гостеприимный, буквально фонтанирующий стихами и идеями.
Отец был другой – очень немногословный, он предпочитал слушать, рассматривать собеседников, иногда слегка улыбаясь, постоянно раздумывая о чем-то; в нем все время шла какая-то неслышная, но очень важная внутренняя работа…
Бедный отец – он мечтал купить для большой комнаты, столовой (в ней, единственной в доме, стены были обшиты вагонкой), белый овальный стол с двенадцатью белыми стульями. Мечтал устроить в ней настоящий камин, чтобы можно было любоваться игрой огня. Возле дверей поставить рыцаря в полный рост, в доспехах, с забралом и шпагой (такого он видел в доме у Поженяна). Не успел это осуществить. В пустой комнате хранились инструменты, которые отец радостно приобретал везде, где мог. С какой любовью он разглядывал по вечерам деревообрабатывающий станок, электролобзик, электродрель!..
На мой вопрос, кого он будет принимать в «белой столовой», с гордостью и одновременно с иронией говорил: «Как кого? Послов, глав делегаций, многочисленных поклонников моего таланта, журналистов, жаждущих взять интервью по поводу моего очередного романа».
Видел бы отец, на что стал нынче похож писательский городок и территория патриаршей дачи около его Зеленого Тупика (последний адрес моего отца в России)… Возле скромной церквушки (ее колокольный звон мы слушали по вечерам с балкона дачи) выросла стена с изразцами не хуже кремлевской. Сама же территория вокруг церкви облагородилась детской площадкой, туалетом для паломников, ларьком для продажи церковной утвари. Неподалеку выстроили пятиглавый храм в честь князя Игоря Черниговского и поставили два памятника святым. Красивый храм, величественный и огромный. Но какой-то он пока холодный, высокомерный, в него не тянет заходить, как в старую переделкинскую церковь, где отца отпевали в 2003 году. Сейчас дорога к патриаршей даче вылизывается тщательнейшим образом, асфальт выглядит так, как будто его каждый день моют шампунем. При жизни отца возле церквушки зачастую околачивались местные пьянчужки, асфальт был весь в рытвинах, вокруг была тишина, стрекотали кузнечики в зарослях полыни и иван-чая.
Мы любили ходить за водой (когда не работал водопровод) к святым источникам недалеко от нашего Зеленого Тупика, рядом с кардиологическим санаторием для ветеранов войны… Воздух был чистейший, хоть ложкой его ешь, а ведь от Москвы Переделкино отделяло всего двадцать минут на электричке.
Лишь одно осталось практически неизменным – старое «писательское» кладбище в Переделкине, где по-прежнему после четырех вечера пусто, даже страшновато – персонала никакого нет. Разрушаются старые плиты на могилах, прорастая мхом и сорняками, колышутся высокие деревья над могилами известных писателей: Пастернака, Тихонова, Чуковского, у забора – заросли репейника, крапивы и огромные, в человеческий рост, лопухи…
На переделкинском кладбище отец и нашел свое успокоение, о чем просил в завещании, – он окончательно вернулся на Родину. А жена его Наталья Кузнецова и ее мама навсегда остались в Германии… Недалеко от отца могила Григория Поженяна – они стали соседями и по кладбищу, в этом есть что-то символическое.
Вернемся к нашему второму знакомству на «Букере». Первое, понятно, состоялось в момент моего появления на свет. Но отец с мамой развелись, когда мне было четыре года, а потом мама снова вышла замуж, отчим меня удочерил, и я носила его фамилию.
Собственно, именно на вручении Букера мы и познакомились по-настоящему. Сидя за праздничным столом, выпили на брудершафт (до этого три года в письмах были на вы) и отец расположил меня к себе, рассказав, как познакомился с мамой: «С обеими своими женами я познакомился в буфете ЦДЛ».
Ох, уж этот знаменитый буфет ЦДЛ, на стенах которого были всевозможные подписи писателей, дружеские и не очень рисунки-шаржи всех тех, кто когда-либо посещал его – от Михаила Светлова и Погодина до Сергея Михалкова, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной. Отцова подпись тоже красовалась там до его отъезда в эмиграцию и «назначения» его диссидентом.
Отец рассказывал, что мама была красавицей, упомянул о том, что до сих пор помнит, в какое платьице она была тогда одета… С гордостью подчеркнул, что обе его жены были красавицами. Мне кажется, что для него это было в какой-то мере самоутверждением – из-за большого, почти во всю щеку родимого пятна он считал себя некрасивым. Правда, когда я его увидела, пятна уже не было, с этим великолепно справились немецкие врачи.
Потом отец попросил проводить его на мамину могилу. Перед отъездом подарил мне «Генерала и его армию» – книгу, изданную «Книжной палатой» (первое книжное издание), «Верного Руслана» (почему-то в сборнике рассказов про собак) и тоненькую, невзрачную книжечку с «Большой рудой» (с которой он вошел в большую литературу).
Вскоре они с Наташей уехали обратно в Германию. Потом снова были письма. Но уже другие. А в 1997 году умерла его Наташенька. Это было огромное горе для него – в эмиграции они были всем друг для друга, там к тому времени у них почти не осталось друзей. Он вызвал меня к себе, и мы вместе совершили сказочное путешествие по Европе. Я открывала отца для себя – ведь мы не знали ничего друг о друге почти тридцать лет. Он тоже заново меня узнавал.
Я прилетела к нему в Германию в конце октября. С визой помог друг, который попросил знакомого немца прислать мне приглашение. Бедный отец даже не имел право меня приглашать – он сам имел статус беженца (на руках был нансеновский синий паспорт). Немецкое гражданство Владимов мог бы получить сразу, если бы знал немецкий язык, а так, согласно немецким законам, получил гражданство только через пятнадцать лет.
Отец встретил меня в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Увидев его, я ужаснулась: когда он приезжал с Наташей на вручение Букера, то имел ухоженный, лощеный вид – в светлом, из тонкого драпа осеннем пальто, приличном темном костюме в мелкую полоску, в темных очках, закрывавших пол-лица, – типичный иностранец.
А сейчас мне навстречу вышел сгорбленный человек в темно-зеленой, явно жениной кофте, в тренировочных брюках с пузырями на коленях, с давно не стриженными седыми с желтизной волосами. Общее впечатление огромного несчастья дополняла коричневая сумка из кусочков кожи, также явно дамская…
Жил отец в Нидернхаузене – маленьком городишке с населением не более десяти тысяч, поселок городского типа по нашим меркам, но это был все-таки настоящий город с банком, множеством магазинчиков, ресторанами, бензоколонками.
До Франкфурта оттуда всего сорок минут на машине. И четырнадцать километров до Висбадена – того самого, где в самом крупном в Европе казино прожигал жизнь, а заодно и гонорары Федор Михайлович Достоевский.
С казино в Висбадене у отца была связана забавная история. Он в Германии буквально заболел компьютерами (хотя ему в то время уже было лет шестьдесят) и мечтал о ноутбуке. Тогда они были еще очень дорогими. И вот отец с женой отправились в казино, Наташа поставила на тридцать два номера все деньги, что у нее были. Каждый номер выиграл по сто марок, и она заработала три тысячи двести марок, на которые и купила отцу желанную игрушку. Рассказывая мне эту историю, отец добавил назидательно: «Вот что значит первый раз! Новичкам всегда везет, хорошо, что у нас хватило ума вовремя остановиться и уйти».
Мы проехали весь Нидернхаузен и поднялись на горушку, вдоль которой стояли семь или восемь девятиэтажных домов. Отцовский дом был на вершине горы, позади дома виднелись мягкие холмы, поросшие густым лесом, напротив дома лес окружала ограда, за которой я заметила каких-то животных. Увидев нас, к решетке сразу же подошла молодая олениха, доверчиво ткнулась в ладонь бархатными губами. За ней потянулись несколько оленей с красивыми ветвистыми рогами.
– Какая прелесть, ручные олени, надо же, прямо возле твоего дома живут! – наивно воскликнула я.
– Ты особо не обольщайся, – мрачно заметил отец, – это же ходячий обед, их специально разводят и держат тут за решеткой для ресторана. Любимое блюдо у немцев здесь – оленина с брусничным вареньем.
– Вот гады!
– А сами дома знаешь кому принадлежат?
– Одному доктору медицины. Он сначала один дом построил и стал сдавать, а потом на доходы от арендной платы построил еще восемь.
– Ничего себе!
– В нашем доме в основном живет всякая голытьба вроде меня, несколько армян, евреев, поляков, но всех нас называют русскими. Есть немного немцев. Так у нас в доме живет человек по фамилии Кальтенбруннер, представляешь?
– А Бормана нет?
– Нет. А вот с Мюллером я пару раз встречался в бассейне.
– У нас в доме на первом этаже есть бассейн. Я плачу две марки в месяц и могу им пользоваться в любое время суток. Пока ты здесь – ходи хоть каждый день.
Четырехкомнатную квартиру в этом доме отец снимал в свое время для большой семьи – он вывез в Германию жену с тещей, которая его боготворила и очень им гордилась. Правда, отец говорил, что порой жалеет о том, что вывез тещу за границу: она прожила после переезда всего три года, а в России, по мнению отца, могла бы еще жить и жить… «Нельзя пожилых людей лишать корней», – говорил он позднее.
В квартире отца я обратила внимание на удивительный порядок в рабочем кабинете, так не сочетающийся с его поношенной одеждой: на стене в отдельных гнездах висели различные инструменты – и для ремонта автомобиля, и для многих других целей, о назначении большинства я только догадывалась. Я, раскрыв рот, рассматривала это богатство – ведь я ничего не знала об отце.
Еще в кабинете были огромный письменный стол, стационарный компьютер, стеллаж во всю стенку (сделанный отцом), заполненный книгами. Многие из них были подписаны очень известными писателями и общественными деятелями (Бёллем, Довлатовым, Максимовым, Войновичем, Аксёновым, Копелевым, Сахаровым, Боннэр).
Я удивилась такому количеству инструментов в его кабинете вслух: мол, зачем писателю делать то, что могут сделать наемные рабочие. Отец лукаво улыбнулся и сказал: «Ты не думай, я не какой-нибудь “вшивый интеллигент”, который не знает, каким концом вогнать гвоздь в стенку. Я очень люблю возиться с инструментами, чинить, ремонтировать, делать многое своими руками. Ты знаешь, когда-то я изобрел важную деталь к двигателю внутреннего сгорания, у меня даже есть патент на изобретение!»
Георгий Владимов - писатель, литературный критик. Самыми значимыми произведениями этого автора является роман «Генерал и его армия», повести «Верный Руслан» и «Большая руда». Каковы отзывы об этих книгах? В чем особенность прозы Владимова?
Биография
Владимов Георгий Николаевич родился в 1931 году. Отец и мать были филологами. Будущий писатель рано осиротел. После смерти родителей воспитывался в семье писателя Дмитрия Стонова.
Георгий Владимов окончил юридический факультет, однако после получения диплома решил посвятить себя литературе. В начале семидесятых его критические статьи приобрели известность. В эти же годы обязанности редактора журнала «Новый мир» выполняет Георгий Владимов.
Биография этого писателя тесно связана с социально-политическим положением, царившем в стране в брежневскую эпоху. Как известно, эти годы были неблагоприятны для творчества авторов, предпочитающих поднимать в своих сочинениях острые вопросы.
Раннее творчество
В 1960 году, после посещения Георгий Владимов написал повесть, вызвавшую резонанс в обществе. Произведение называется «Большая руда». В годы, когда была создана повесть, среди советских интеллигентов уже стала проявляться некоторая оппозиция. Она имела скрытый характер и выражалась, как правило, в чтении и обсуждении литературы, не соответствующей советской идеологии. В программу так называемых шестидесятников вошла и «Большая руда».

Следующее произведение Георгий Владимов опубликовал лишь через девять лет. «Три минуты молчания» - именно так называется вторая повесть автора, который в конце шестидесятых уже относился к категории «запрещенных», - полностью была издана спустя тридцать пять лет после написания. Произведение имеет исповедальный характер. В книге отражены будни рыболовного лайнера. Прежде чем написать повесть, писатель несколько месяцев проработал матросом на мурманском сейнере.
«Верный Руслан»
Манера письма Владимова была оценена критиками. Особенности его прозы - достоверность, лиричность, обличительные мотивы. В 1975 году вышла в свет повесть «Верный Руслан». Рассказ о преданном охраннике советского лагеря был опубликован впервые в ФРГ.
Книга повествует о том, как собака охраняет человека от себя подобных. О том, как она контролирует жизнь одних двуногих, находящихся под надзором других. Владимов рассказал о трагичности времени, в котором жил. Но сделал это под особым ракурсом.

Запрещенная деятельность
Стремление Владимова осветить темы, на которые в советском обществе говорить было опасно, привело к тому, что его исключили из Союза писателей. Литературная и общественная деятельность на этом, безусловно, не закончилась.
Писатель в конце семидесятых руководил организацией, запрещенной в стране. Называлось это объединение «Международная амнистия». Как и другие советские авторы, которых отказывались издавать на родине, герой этой статьи публиковал свои сочинения за рубежом. А в 1982 году, дабы избежать ареста, писатель Георгий Владимов эмигрировал.
Стоит больше внимания уделить книге, которая уже упоминалась в статье. В 1994 году завершил написание самого знаменитого произведения Георгий Владимов. «Генерал и его армия» - нашумевший роман. Споры о достоверности фактов, которые легли в основу этого произведения, критики ведут и сегодня.

«Генерал и его армия»
За этот роман автор был удостоен Перед присуждением награды вокруг книги велись литературные диспуты. Вызваны они были тем, что в произведении Владимова война освещена с необычной точки зрения. Один из критиков отметил, что мнение о книге ошибочное. Впечатление о том, что действия романа происходят в Советском Союзе в начале сороковых годов, обманчиво. Ведь отечественной истории неизвестен генерал по имени Кобрисов. Городов Мырятина и Предславля в СССР тоже никогда не было. Роман Владимова, по мнению критика О. Давыдова, вообще, нельзя назвать историческим.

В произведении «Генерал и его армия» изображены психологические проблемы, пристрастия и предрассудки, связанные с судьбой автора. Военные реалии, которые присутствуют в романе, играют роль некоего антуража, оттеняющего несвязанные с ВОВ события из жизни писателя.
По мнению Олега Давыдова, осуждать Владимова за использование недостоверных данных нельзя. Роман «Генерал и его армия» - произведение не историческое, а скорее автобиографическое. Какие вопросы поднял автор в нашумевшей книге?
Героя романа вызывает главнокомандующий. Кобрисов совершил некий проступок, за который должен понести наказание. Но в последний момент ситуация меняется. Его поступок увенчался успехом, и он с радостью возвращается. Таков сюжет книги. Идея ее заключается в том, что есть высший суд. И это, по мнению Давыдова, главная мысль книги. Военные события - лишь фон, с помощью которого писатель выразил свою идею. Впрочем, в книге присутствуют как вымышленные персонажи, так и реальные.
Германия
В эмиграции писатель продолжил литературную и общественную деятельность. Два года проработал в журнале «Грани». В период перестройки его произведения постепенно начали появляться в отечественных журналах.
В 1990 году Владимов восстановил советское гражданство. В начале двухтысячных годов проживал в легендарном писательском поселке на юго-западе столицы. Скончался Владимов Георгий Николаевич в октябре 2003 года. Похоронен писатель в Москве, на кладбище в Переделкино.
Михаил Нехорошев
Григория Бакланова спросили, какие книги о войне он считает лучшими. Писатель назвал три произведения: «В окопах Сталинграда», «Жизнь и судьба», «Генерал и его армия». Собственно, предметом дискуссии мог быть только роман Г. Владимова «Генерал и его армия». Время рецензий, полагаю, уже прошло, но стоит задуматься, почему Бакланов включил эту книгу в тройку абсолютных призеров.
Конечно, не потому, что Владимов написал «генеральский» роман, восполнив некий пробел военной темы: «солдатская» и «лейтенантская» проза замечательного уровня есть, а «генеральской» не было. Рассказывая судьбу генерала Кобрисова и естественным образом введя в повествование других военачальников, Владимов пишет не подобие штабных сводок, не историю в виде набора дат, но говорит о тех рычагах и пружинах, что и приводили события в действие. Мы уже столько прочли книг о войне, знаем, как мы воевали, а вот на вопрос, почему именно так, отвечать придется еще долго. Да, стояла рота на безымянной высоте до последнего, пали бойцы и командиры смертью храбрых, а потом оказалось: снаряды не подвезли, связь не протянули, резервные части не подошли вовремя или подошли совсем не туда, где их ждали - да что это за наваждение? Почему так? В 41-м, безоружное почти, московское ополчение гибло под немецкими бомбами и танками. Но в 43-м мы наступали, имея опыт войны, перевес в живой силе и технике, а побеждали, как и раньше, используя «русского четырехслойную» тактику: три слоя солдат в землю лягут - по ним четвертый наступать пойдет. А почему так было в 43-м, - и даже в 45-м! - это и есть наша военная тайна.
Вот командующие армий обсуждают план взятия Киева (в романе - Предславль). Обсуждают, когда армия Кобрисова уже «обжила» Мырятинский плацдарм на правом берегу Днепра, когда две переправы налажены, кабель связи проложен, немецкие позиции пристреляны, а, сама армия одним крылом уже в двенадцати километрах от города. Все, чего требует военное искусство, сделано, можно брать «жемчужину Украины», оставив у немцев городок Мырятин, не он дело решает. И убедил бы Кобрисов маршала Жукова, да аргумент выбрал неподходящий: людей, мол, жалко, а за этот городок, где до войны было тысяч десять жителей, столько же и положить придется. «Что ж, попросите пополнение», - сказал маршал. Реплика короткая, будничная, без интонации, значит, так всегда, таково неписаное правило. И маршал Жуков, без сомнения, умеет воевать лучше многих своих генералов, а что знать не хочет и никогда не хотел знать, сколько солдат погибнет, так на то есть причина: не мог главный советский полководец иным быть, нам иной был не нужен, мы все делали - «любой ценой». Каков был наш мир, такова была и война.
Владимов - автор экономный, обронил слово, что был план взять город к 7 ноября, но такую мелочь не всякий читатель и заметит. Зато в любом историческом труде вы найдете гордые строки: «Партийно-политическая работа проводилась под лозунгом «Освободим Киев к 26-й годовщине Великого Октября». Какое отношение имеет самая великая годовщина к военной тактике, объяснить нельзя, но такая уж была идеология, такая партийная линия. Шкурническая идеология. Она возносила тех, кто города к юбилейным датам брал, а не тех, кто людей хотел сохранить. Эта пружина многое определяла в ходе войны, а по силе с ней могли равняться только пружины тайного сыска: особые отделы всех разновидностей. Отечественная война тоталитарного государства - вот как называлась эта парадоксальная ситуация. Потому парадоксальная, что такие государства обычно нападают сами, а война за Отечество - не их дело. И получалось, что, поднимаясь в атаку за Родину, гибли солдаты и за Сталина, и за советский режим. Тот режим, который свой народ ненавидел и боялся его больше всего на свете. И если эти строки кого-то возмутят, - а это уж непременно! - то отвечу, что лучше бы возмущаться действиями нашего командования, например, приказом Ставки № 270 от 16 августа 41-го года. Приказ большой, да суть его коротка: нет у нас слова «военнопленный», а есть слово «предатель». И было за войну, по самым скромным подсчетам, не меньше четырех миллионов таких «предателей».
Особое место в романе занимает фигура генерала Власова. Критики о ней либо молчат, либо говорят коротко и порой упрекают автора нечеткостью этих страниц. Ну, это понятно: начало контрнаступления под Москвой описано со множеством точных деталей, но в центре эпизода - генерал, то имеющий плоть, то мелькающий неким видением. Могучий рост, «замечательное мужское лицо», ходит «не суетясь, крупно ступая», от него исходит «спокойствие и уверенность» - это о нем. «Лицо было трудное, отчасти страдальческое», хваткий наблюдатель заметил бы в нем «ускользающую от других обманчивость», «он испытал страх пленения, который и сейчас не утих» - и это все тоже о нем. Генерал многолик, переменчив и даже бесфамилен. Генерал-загадка. Что ж, оно и верно. Знаем мы о Власове, что он предатель, служивший немцам, а вот каким он был советским военачальником - нигде ни слова. Будто он и родился генералом и тут же быстренько к немцам перебежал. Автор не прикидывался ясновидцем, не строил сенсационных версий и написал не персонаж даже, но лишь штрихи к портрету.
Случилось и послесловие к разговору о Власове и о пленных. Спустя три месяца после публикации романа появились (опять же в «Знамени») две статьи: Л. Решин «Коллаборационисты и жертвы режима», Г. Владимов «Новое следствие, приговор старый». Решин писал статью по материалам архивов ФСБ, по тем, конечно, к которым его допустили, но кое-какие факты к нашим скудным сведениям он добавил, за что и спасибо. Выводы Решина традиционны и потому неинтересны, а жонглирование цифрами уже давно приелось. В статье же Владимова, полагаю, важнее всего не полемика с Решиным, но прямая речь автора, сказавшего вот что. Власов, конечно, не борец с режимом, скорее, авантюрист, «человек минуты, а не часа» и на роль вождя «третьей силы» (против Сталина и Гитлера одновременно) претендовать не мог. Что же касается солдат, вступивших в РОА, то речь, естественно, идет не об оправданий предательства, а совсем о другом. «Трагедия отчаявшихся, утративших все надежды найти с властью иной язык, кроме ружейно-пулеметного, пошедших против родины, как идут против самих себя, решаясь на самоубийство», - вот о чем болит душа у Владимова. А идея «третьей силы» - возможного, но несостоявшегося союза Власова с генералом типа Гудериана, мне вообще представляется политической утопией. В тот исторический момент все, кто мог влиять на события, уже заполнили политическую арену. Там просто не было свободного места.
И хорошо, что в романе и слова нет о «третьей силе», а есть Гудериан, желающий понять, откуда эта страна черпает силу сопротивления и почему здесь происходит не война двух армий, а нечто иное. Возможно, «Быстроходный Гейнц», стратег и тактик «панцерваффе» действительно читал «Войну и мир» в ту ночь, когда подписывал первый в его жизни приказ об отступлении, - да в том ли дело? Прочти Гудериан хоть всю русскую классику, он бы и на шаг не приблизился к тайне легендарного танка Т-34. А тайна была проста и безыскусна: «Его делали враги народа - значит, работали на совесть и, главное, подпольно... У нас таких патриотов - сколько понадобится». Объяснить это нельзя, это аксиома советского строя: защищать Отечество руками «врагов народа». «Это, наша боль, наша и ничья другая». И почти все в годы Великой Отечественной были уверены: после войны будет иначе. Свидетельств тому сохранилось множество. И возможно, Гудериан действительно понял, что осенью 41-го немецкой армии «противостояла уже не Совдепия с ее усилением и усилением классовой борьбы, противостояла Россия», но что нам до Гудериана?
Когда Л. Аннинский («НМ», № 10, 94) спрашивает, почему наши солдаты были согласны «умирать за любой клочок земли, даже и не имеющий стратегического значения» - то это и не риторический вопрос даже, а просто фигура речи. Значение безымянных высот и малых поселков определяли те самые полководцы, мастера победных рапортов, которых Аннинский справедливо назвал «мясниками». А солдаты умирали - за надежду. Что было, когда люди теряли надежду, уже сказано. Признаться, Аннинского я упоминаю потому лишь, что он-то как раз прочел роман адекватно, прочел то, что и написано (а мы еще увидим, что это вовсе не правило), и озаглавил рецензию ключевой цитатой: «Спасти Россию ценой России». Он же написал: «Так я хочу знать, откуда в нас фундаментальная склонность к такому принципу расплаты». Что ж, о фундаментальности и ментальности можно говорить без конца, вечные вопросы ответов не имеют, но в данном случае, полагаю, было одно решающее «обстоятельство: принцип расплаты определяла советская власть.
А первая обстоятельнейшая журнальная статья принадлежит перу Натальи Ивановой («Знамя», № 7, 94). В этом материале радует прежде всего, что критик много пишет о языке, стиле и других вещах, которые до странности не модны в сегодняшних публикациях о литературе. Наталья Иванова отмечает, что роман многослоен, «прочитывается на нескольких уровнях», что вещь эта традиционна в самом высоком смысле и есть в романе перекличка не только с Толстым и Гоголем, но и с фольклорными мотивами. И все бы замечательно, но вот странность: статья начинается размышлениями о стихах Бродского «На смерть Жукова» и отдана тому добрая треть текста. А понадобилось необъятное вступление, чтобы объявить Бродского, - а далее и Владимова, - освободившимися «от слишком простой антисоветской схемы». Позже будет и вывод: «Владимов ищет оправдания Кобрисова - как Бродский ищет оправдания Жукова». Конечно, литература - не таблица умножения, романы затем и пишут, чтобы пойти дальше «простой схемы», но согласиться с выводом Натальи Ивановой не могу. Противостояние Кобрисова и Жукова - одна из главных линий романа, тот самый вопрос о принципе расплаты. Никаких оправданий Кобрисову автор не искал, а равно не выставлял его рыцарем без страха и упрека. Кобрисов один из немногих, кто грехи свои понял и в меру сил искупить их пытался, а Жуков - и в романе и в жизни - грехов за собой не числил. В его лексиконе и слова такого не было.
В конце Наталья Иванова говорит: «Даже Вячеслав Кондратьев, даже Булат Окуджава, воевавшие, кровь проливавшие, - не смогли преодолеть идеологического давления злобы дня и напоследок усомнились в величии Отечественной. «Война двух тоталитарных систем...» Мне кажется, что тут надо поосторожнее быть в оценках, а то как раз «простая схема» и получится. Тогда уж первым усомнившимся надо считать В. Гроссмана, написавшего о родстве тоталитарных систем. А за последний год говорили о том же в различных публикациях Виктор Астафьев, Григорий Бакланов, Василь Быков, Юрий Левитанский, и никто из них в величии народного подвига не усомнился. Мы победили не благодаря, а вопреки этой власти - вот о чем речь, вот к чему мы обязательно приходим по здравом размышлении. Об этом и роман Владимова.
Самую оригинальную рецензию написал В. Топоров («Смена», 27.10.94), с первых же строк напомнивший, что роман был анонсирован года четыре назад, но «при военном писателе Бакланове на вышел». Соображай читатель: Бакланов как редактор далеко не все в романе одобрял, но он «ушел в отставку» - и вот результат. Топоров - не астролог и не обязан был угадать, что скажет Бакланов 8 мая 95-го, но многозначительные намеки, и близко не лежащие к истине, только дезориентируют читателя. Впрочем, экстравагантная манера критика известна, можно бы ее и не касаться, благо суть романа Топоров прекрасно понял, но ее-то и не принял. Кобрисов - «типично немецкий генерал», и вообще этот образ «по большому счету все-таки фальшив» - то есть художественный просчет автора, слишком долго живущего в Германии. Загляни Топоров в справочники, он бы узнал, что Кобрисов - не образ даже, а почти фотография реального прототипа, Героя Советского Союза Н.Е. Чибисова, которого немцем обозвать просто неприлично. Но Топоров в самом деле не представляет себе советского генерала, воюющего не числом, а уменьем, потому и в справочники не глядит. Россия, пишет Топоров, по правилам стратегии всегда проигрывала, а победы одерживала, когда «за ценой не стояла» и, соответственно, отдавала судьбу армии и страны в руки военачальников типа Жукова - и конкретно Жукова.
В этой концептуальной дискуссии предлагаю послушать мнение еще одного автора - Виктора Астафьева. Он вроде бы человек не близкий Владимову ни судьбой, ни стилем письма, ни сюжетами книг, но если считать не по воинским званиям и должностям персонажей, то «Прокляты и убиты» - все о тон; же, о чем и «Генерал...» Уже публикация первой книги романа («Чертова яма», «НМ», № 10-12, 92) вызвала шок среди читающей публики. Сказать, что это неправда - язык не поворачивается, а если правда - волосы дыбом и слов нет. Запасной полк, чертова яма - конечно, ад, но очень уж бытовой, хоть малой деталью, а любому читателю знакомый. Новобранцев-казахов в летнем обмундировании, кормившихся по дороге чем придется, привозят в Бердск среди зимы полуживыми, а кого и просто мертвыми. Солдат гноят в казармах, превращая будущих защитников родины в доходяг. Ну, положим, на фронте за ценой не стояли, а здесь-то чего ради людей губить? Не ради - а потому. Потому что и на «гражданке» цена нашего человека копейка или того меньше. Про вранье политотделов, про «работу» особистов, норовящих каждого сделать доносителем, - все, естественно, как и у Владимова. Тут равны и солдаты и генералы - присмотр за всеми нужен. А вот лейтенанта Шуся кто-то из солдат немцем посчитал - «за аккуратность». «Оттого, что настоящего русского офицера он не видал, больше шпану зрел», ответил Шусь. (Жаль, что Топорову эти строчки не вспомнились, когда он про Кобрисова писал.) И еще. Критики часто упоминают историю расстрела братьев Снегиревых как образец бессмысленной жестокости. Верно, но для меня не менее сильна сцена абсолютно бытовая: большой генерал приехал с инспекцией, в столовую пришел, кричит грозно: «Солдат обворовывать?» - да только с первых же строк ясно, что хоть кричи, хоть стреляй, а все останется, как было, потому что на этом воровстве все и держится.
Астафьев долго шел к этому роману, с тех еще времен, когда правду строго дозировали надзирающие органы. По счастью, сохранились его письма к Вячеславу Кондратьеву 82-87-го годов, опубликованные в «ЛГ» (26.10.94). Личная переписка и у больших писателей бывает, скажем так, заурядной, но здесь - блестящая публицистика, мнение о наших стратегах, на собственной шкуре выстраданное: «Бездарные полководцы, совершенно разучившиеся ценить самую жизнь, сорили солдатами, как песком, и досорились!» И далее: «А между проедем, тот, кто «до Жукова доберется», и будет истинным русским писателем... Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда». Заметьте, «спор» между Астафьевым и Топоровым идет не о фактах, а о концепциях. По Топорову выходит, что такова уж наша историческая судьба и не след дурно говорить о национальном герое Жукове. Если же по Астафьеву, - безнравственна власть, у которой такие герои, и надо не памятники им ставить, а учиться хоть сегодня-то жить по человечески.
Но литературные и философские споры - это еще не все. В обществе, где гражданское согласие и снится не часто, можно было ожидать и крепкого разноса, ставящего на место злопыхателей. Не экстравагантностей Топорова, а мощного, основательного удара - на войне как на войне, без церемоний. Оно и случилось. В день 50-летия Победы, - видимо, как подарок к празднику, - «Книжное обозрение» напечатало фрагменты книги «Срам имут и живые, и мёртвые, и Россия...», которая, - сказано в редакционном примечании, - посвящена публикациям, «очерняющим Отечественную войну». Списка злопыхателей пока нет, а фрагменты - целых шесть полос! - воздают и писателю Владимову и его персонажам. Если коротко, то роман - подтасовка фактов, историческая безграмотность, фантазии человека никогда пороха и не нюхавшего, но симпатизирующего изменникам и другим мерзавцам. Очернительство, сказано же. И если б накинулся на Владимова отставной полководец какой-нибудь, все было бы в порядке вещей. Вот маршал Д.Т. Язов (последний министр обороны СССР, член ГКЧП и прочая) о романе В. Астафьева выразился в печати простым нецензурным словом (Газетчики стыдливо поместили только первую букву), так и вопросов нет. Здесь же случай иной: автор публикации - Владимир Богомолов, фронтовик и писатель, такой же, казалось бы, как и Бакланов, Кондратьев, Астафьев, но оказалось, что нет, не такой.
Легко представить, что материал Богомолова произвел впечатление сильное, если не сказать, ошеломляющее. И вряд ли ошеломленный читатель заметил важную деталь: Богомолов пишет сразу о романе «Генерал и его армия», о статье «Новое следствие, приговор старый» и еще о многом, что к роману имеет совсем уж косвенное отношение. Вероятнее всего, Богомолову показалось, что Гудериан и Власов - любимые герои Владимова, что изображены они почти ангелами и вообще это главные персонажи романа. Положим, это абсолютно неверно, но так прочел Богомолов - его право. И не в том беда, что он свою позицию вывел из эмоционального впечатления, а в том, что решил эту позицию обосновать документально и стал приводить материалы из жизни Гудериана и Власова, доказывая, само собой, какие это были мерзавцы. Так что литература отходит на второй план, уступая место истории. И если Богомолов винит Владимова в незнании документов, давайте уж вспоминать все, что сегодня опубликовано, чтобы впросак не попасть.
Цитируется, например, приказ Гудерйана от 22 декабря 41-го, - когда немцы отступали по всему фронту, - требующий «все оставляемые населенные пункты сжигать». Приказ, что уж говорить, людоедский, но месяцем раньше, - когда отступали наши войска, - был приказ советского командования № 0428 от 17 ноября 41-го, начинающийся словами: «Разрушать и сжигать дотла все населеннее пункты в тылу немецких войск...» А население этих пунктов, куда ж ему деться среди зимы? - вряд ли могло приветствовать диверсионные отряды, исполняющие этот приказ, потому и выдали немцам Зою Космодемьянскую простые советские люди. Так что о приказах судите сами... Гудериан, пишет Богомолов, мерзок еще и тем, что жестоко подавлял в 44-м Варшавское восстание. Верно, памятник за такие дела не ставят, но мы-то что делали в это время? Процитирую не какого-нибудь изменника-перебежчика, а писателя Овидия Горчакова, прошедшего войну разведчиком: «Когда Варшава горела, то мы были заинтересованы... Сталин был заинтересован...» Напечатано в «Комсомольской правде» 13.01.95 тиражом более миллиона экземпляров... Гейнц Гудериан был генералом времен второй мировой войны, и обсуждать его моральный облик - странное занятие. Но если обсуждать, то памятуя правило: все познается в сравнении. И последнее. Владимов верно описал удивление Гудериана при знакомстве с танком Т-34 - другие наши танки Гудериан знал отлично. Он, - так уж сложилось, - изучал азы танкового дела в секретном центре «Кама» в Казани.
Теперь о Власове. У нас, пишет Богомолов, было 183 командующих общевойсковыми армиями, «несколько попало в плен» (сколько же и почему?), и только один Власов пошел на службу к немцам. Тут явная магия цифр и воинских должностей ну а если не командующий армией? Если бригадный комиссар Жиленков, член Военного совета 32-й армии, или комбриг Бессонов, бывший начальник отдела боевой подготовки Главного управления пограничных и внутренних войск НКВД СССР, или генерал-майор Благовещенский, начальник Либавского военно-морского училища ПВО - что же, не в счет все эти «сподвижники» Власова в РОА, хотя по званиям и должностям тоже, знаете, не сержанты запаса. (Сведения из статьи Л. Решина, а Богомолов не мог ее не читать.) Вот бы и задуматься, почему Власов был именно что не один! Но у Богомолова своя задача: доказать, что Власов вовсе и не командовал 20-й армией под Москвой, а только числился в этой должности. По архивным данным, - которые Богомолов пересказывает без цитат и ссылок! - Власов с конца ноября по 21 декабря 41-го болел «тяжелейшим гнойным воспалением среднего уха», был в госпитале, а командовал армией начальник штаба Л. М. Сандалов. На командном пункте армии Власов первый раз появился 19 декабря в селе Чесмены (запомните эту дату!), то есть за день до взятия Волоколамска. Не мог Власов быть в Лобне в первых числах декабря, как это описано в романе. И вообще 20-я армия - самая слабая из всех, участвовавших в битве под Москвой.
Версия Богомолова напоминает лихой детектив и вот по какой причине. Начав 16 ноября второе наступление на Москву, немецкие войска к концу месяца охватили город полукольцом, сосредоточив ударные группировки на южном и северном направлениях. В ночь на 29 ноября в районе Яхромы противник перешел по льду канал Москва-Волга (угроза окружения с востока!), и ликвидировать этот прорыв удалось только через сутки. 30 ноября Ставка принимает решение о начале контрнаступления, успех которого был вовсе не очевиден. Основной удар наносится на правом крыле Западного фронта (северное, северо-западное направление), где противник стоит в 25-30 километрах от Москвы. Начинают операцию 1-ая ударная армия (В. И. Кузнецов), 20-я армия (А. А. Власов), 16-я армия (К. К. Рокоссовский), позже вступает 30-я армия (Д. Д. Лелюшенко). Все открытые источники (монографии, мемуары, документы) сходятся в том, что на 20-й армии, выступающей из района Белый Раст - Красная Поляна, лежала наибольшая ответственность.
Так можно ли представить, что в самую критическую точку фронта посылают самую слабую армию, - взятую из резерва Ставки, - а командовать ею назначают тяжело больного генерала? Санаторий у нас был на фронте? Или Сталин, Жуков, Генштаб в полном составе - все дружно и внезапно умом подвинулись?
А, допустим, и назначили - думали, скоро поправится, да и генерал, значит, был на хорошем счету. А он все болеет. Так поставьте другого, время-то не ждет! С 1 по 5 декабря идет борьба за инициативу, населенные пункты переходят из рук в руки. 1 декабря 3-я танковая группа противника совершает прорыв по Рогачевскому шоссе и подходит к Лобне. 2 декабря отступает за Крюково правый фланг 16-й армии. (Кстати, 2 декабря немецкое командование полагало, что наши резервы исчерпаны, так что остроту ситуации комментировать не приходится.) 20-я армия активно участвует в боях, хотя полное сосредоточение ее частей заканчивается 4 декабря. Реальное контрнаступление начинается 6 декабря движением 1-й ударной и 20-й армий в направлении Клин-Солнечногорск. Силы противника еще велики, сопротивление отчаянное. Красная Поляна и Белый Раст отбиты у немцев только к утру 8 декабря. Армия продвинулась всего на 4-5 километров, но это был перелом ситуации. (Он-то и описан в романе.) 12 декабря 20-я армия освободила Солнечногорск, а 20 декабря совместно с 16-й армией - Волоколамск. Глядя на карту, трудно представить, что все это могла совершить самая слабая армия.
Желающим проверить эти сведения рекомендую мемуары маршалов Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского. Впрочем, в книге Богомолова «Момент истины» тоже есть упоминание, что «в решающий час» были введены под Москвой «свежие резервы, в частности две новые армии, сосредоточенные севернее столицы, что явилось для немцев полной неожиданностью». Сказано, как видите, уважительно, а внимательный читатель и сам уже догадался, что речь идет о 1-й ударной и 20-й армиях. А почему нынче Богомолов поменял свою точку зрения - вопрос для экстрасенсов, умеющих мысли читать.
Теперь посмотрим, что пишет главный свидетель, начальник штаба 20-й армии Л. М. Сандалов, в книге «На московском направлении». 29 ноября он по срочному вызову прибывает в Генштаб к Б. М. Шапошникову, получает информацию о положении на фронте и назначение на должность начштаба. Спрашивает, кто командующий? Командующий есть, но он болен. «В ближайшее время вам придется обходиться без него. Однако все важные вопросы согласовывайте с ним», - говорит Шапошников. (Фамилию командующего собеседники упорно не произносят.) И главное, остается тайной, выполнил ли Сандалов указание Шапошникова? советовался ли с командующим? Читаем: «В ночь на 2 декабря командование армии с начальниками родов войск и большая часть сотрудников штаба и политотдела армии выехали в войска для организации контрудара». (Читатель, это как раз тот НП в Лобне и тот момент времени, о которых мы знаем из романа!) А еще бы узнать, «командование армии» - это кто? Неизвестно. Обычно щедрый на фамилии Сандалов не назвал здесь ни одной! (Может, боялся проговориться?) Во всяком случае Л. М. Сандалов точно знал, что можно писать в мемуарах, а что следует опустить. Ни до, ни после «легендарной» даты 19 декабря нет в книге Сандалова ни слова о командующем: мелькнул он едножды в Чесменах - в темных очках и бурках и даже при фамилии! - и бесследно исчез. Власов командовал 20-й армией до середины марта 42-го, но на страницах книги так и не появился. Как видите, Сандалов свой детектив написал гораздо раньше Богомолова (1970 год), но обе версии удивительно близки.
Похоже, мы имеем дело с Тщательно подготовленной легендой. Ни у Сандалова, ни у Богомолова нет ни единой ссылки на источники, когда речь идет о Власове (в других местах - пожалуйста). Богомолов упоминает телефонные переговоры, записи которых хранятся в архиве. Где именно? Хорошо бы дать реквизиты: архив... фонд... опись... дело... лист... Автор «Момента истины» отлично знает цену документа, вспомните, как работают его герои-розыскники: «Печать... Дата... Чернила... Мастика штемпельная... Фактура бумаги... Подпись командира части... натуральна...» А здесь и не получается, чтоб «натуральна»! Мало того, что описание эпизода 19 декабря у двух авторов близко по интонации и массе деталей, так есть у Богомолова две фразы в кавычках, как бы из архивов, но опять без указания источника: «командование фронта очень недовольно медленным наступлением армии», и «генерал армии Жуков указал на пассивную роль в руководстве войсками командующего армией и требует его личной подписи на оперативных документах». Вот это натурально из книги Сандалова (стр. 264), зачем Богомолов поставил эти фразы в кавычки - тайна. Как видите, читатель, я имел все основания назвать труд Богомолова детективом. И нельзя считать доказанным, что не было Власова на НП в Лобне.
(Строго говоря, разбирать «по косточкам» богомоловские версии и нужды не было: достаточно обратиться к боевой характеристике командарма Власова, написанной 24 января 1942 года (во время подведения итогов битвы под Москвой): «Руководил операциями 20 армии: контрударом на город Солнечногорск, наступлением войск армии на Волоколамском направлении и прорывом оборонительного рубежа на р. Ламе. Лично генерал-лейтенант Власов в оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки имеет. С управлением войсками армии справляется вполне» (цит. по Д. Волкогонов, «Триумф и трагедия»). Документ четок, лаконичен, двойного толкования не допускает. Подписал его командующий Западным фронтом, генерал армии Г.К. Жуков. Будущий маршал с подчиненными всегда был строг, бездельников в армии не терпел, любимчиков не имел и на похвалу был скуп. Жуковские слова «справляется вполне» равносильны высшей аттестации. И вообразить нельзя, что Жуков представил Власова к ордену Красного Знамени, если единственной боевой заслугой командарма было воспаление среднего уха.)
Конечно, Богомолов имел право пользоваться и книгой Сандалова, а я как раз не имею права считать, что он не работал в архиве. Но хотелось бы видеть не выдержки из документов в вольном пересказе, а сами документы: эти материалы вообще-то могут и не совпасть. По тому, как Богомолов цитирует роман, поводы для такого опасения есть. Приведена, например, цитата о Власове в следующем виде: «Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно...» Вот, мол, как лестно пишет Владимов об изменнике. Так в романе-то на этом месте стоит запятая и дальше следует: «и разве что наблюдатель, особенно хваткий, с долгим житейским опытом, разглядел бы в нем ускользающую от других обманчивость». Вот где суть. А по методе Богомолова можно любую мысль превратить в полную ее противоположность. Еще пример: «Кобрисову никак не могли в декабре 1941 года выделить два гектара земли в Апрелевре». Что правда, то правда, не могли. Шести соток и тех не дали. Ни Кобрисову, ни кому другому. Безусловный и неоспоримый исторический факт, хотя к роману все это отношения не имеет. Жена Кобрисова говорит, «что вот генералов на дачные участки собираются записывать». Жены, знаете ли, часто норовят опередить события, есть у них такая слабость, но женские пересуды - это ведь не постановление правительства, не так ли? Собираются записывать - так о чем спорить-то? Вот как хотите, но мне временами кажется, что Богомолов писал для людей, которые не только ни одной книги по истории не прочли, но и роман в глаза не видели.
А еще Богомолов хочет, чтобы персонажи романа изъяснялись в разговоре с точностью официальных документов. Майор Светлоокое спрашивает: «Ты Калмыкову из трибунала знаешь? Старшую машинистку». Не было такой должности - «старшая машинистка»! - возмущается Богомолов, а все подобные случаи складывает один к одному, «уличая» Владимова в полном незнании реалий армейской жизни. Я, признаться, тоже не знаю, была ли такая должность, но коль скоро машинисток было три, да одна постарше, а две совсем девчонки, то уж точно, что звали ее всегда старшей: она по делу была старшей. Оно и на «гражданке» так, а тем более в армии. А про должность в романе не сказано - опять-таки собственное впечатление Богомолов выдает за текст. Подобных «ошибок» Богомолов насчитал несколько десятков.
Теперь о деталях более серьезных. Возмущает Богомолова эпизод, когда на «генеральском» совещании перед взятием Предславля Хрущев раздает подарки: именные часы, коньяк, вышитые украинские рубашки. Генералы, пишет Богомолов, «не могли, подобно туземцам, радоваться подаркам Хрущева» - у них в 43-м коньяка было в хозяйстве хоть залейся, снабжение налажено, а Владимов опять-таки жизни не знает, не понимает, «сколь это все нелепо». Почему снабжение армии коньяком так принципиально, не знаю, да и вся трактовка, мягко говоря, сомнительна: подарки-то вовсе не от Хрущева, а «от лица, вот, значит, Военного совета фронта», и попробуй кто не порадоваться, так он, вот, значит, Военный совет и оскорбит, и будь он хоть трижды генерал, а завидовать его дальнейшей судьбе уже не придется. Да и просто по-человечески, не подарок дорог, а внимание, и нелепо было бы отказаться от именных часов, потому что часы-то у генералов, думаю, были. А вот раздача украинских рубашек, коим придан особый идеологический смысл, - «жемчужину Украины» освобождают украинцы! - это истинная нелепость, но такая родная, такая советская, да, пожалуй, и меньшая нелепость, чем лозунг освобождения Киева к 26-й годовщине революции. Знает Владимов, «сколь это нелепо» - о том и пишет.
И опять, - в который уже раз! - вынужден отметить фантазии Богомолова: в романе и слова нет, что генералы радовались подаркам. Им совсем не до того, они делом заняты, а балагурит один Хрущев. Но если подумать, то есть в этом эпизоде некоторая тонкость, и нельзя категорически сказать, что не имел Богомолов оснований для возмущения. Имел он основания, правда, своеобразные. И действительно есть нечто оскорбительное для собравшихся генералов в самой процедуре раздачи подарков, в прибаутках Хрущева и в объявлении всех подряд украинцами: не генералы, как туземцы, а Хрущев с ними, как с туземцами! Очень уж близка по духу эта сцена тому, что мы из других книг знаем: как Сталин спаивал и одаривал ближайших соратников (и Хрущева в том числе) на узких сборищах, унижая при этом любого и каждого. Что ж, в том и мастерство Владимова, давшего нам ощутить всепроникающий дух холуйства, насаждаемый вождем. Но почему Богомолов обиделся на автора, а не возмутился нормами советской жизни? Бог весть...
Еще одна «неточность» - слишком уж всемогущим выглядит в романе «смершевец» Светлооков. Богомолов долго рассказывает, что такого не. было и быть не могло, даже случаи из жизни приводит, хотя все фамилии при этом обозначает только двумя буквами, словно бы сведения эти секретны. А зачем случаи из жизни, если мы и сами не из Америки приехали? В тоталитарном государстве - вся власть у служб безопасности, и особый смысл слова «органы» есть только в русском языке, в советское время он появился. И в собственном, Владимира Богомолова, романе «Момент истины» написано: «органы «Смерш» подчинялись непосредственно Верховному Главнокомандующему, Наркому Обороны И.В. Сталину». Отсюда и всемогущество. А как было оно велико, современный читатель и представить не может. И еще. В том же романе капитан Аникушин хочет - хотя и не по делу - жаловаться на розыскников из «Смерша», рапорт собирается писать, но не своему начальству, а прямо в Москву: «Только не майору и не начальнику гарнизона - эти люди, пожалуй, не захотят связываться с особистами, не станут заниматься соисканием неприятностей». Герои Богомолова знали, что это за неприятности, а сам автор нынче вдруг забыл.
Одним словом, розыск Богомолов произвел, но «момента истины» не добился. И хотелось бы поставить точку, но подоспел свежий номер «ЛГ» (07.06.95) со статьей П. Басинского «Игра в классики на чужой крови», где был бы уместен подзаголовок «Литературная драма». Прочтя в «Книжном обозрении» материал Богомолова, критик внезапно прозрел и свою прежнюю любовь к «Генералу...» объявил ересью и заблуждением. «Я готов признать свое личное, как критика, поражение, лишь отчасти извиняемое тем, что я хвалил владимовский роман не как «военный», - истово кается Басинский. Но и это прозрение, видимо, не окончательное, потому что остался вопрос: «Может ли считаться прекрасным роман о войне, в котором автор, как педантично доказывает Владимир Богомолов... просто лжет - иногда невольно, а иногда и специально?»
Этичность последнего вопроса не стоит обсуждения, ибо поражение Басинского бесспорно и ничем не извиняемо. Критик должен внимательно читать, сопоставлять факты и думать. Хотя бы сравнить текст романа со статьей, если нет времени смотреть другие источники. «Педантичные доказательства» Богомолова настолько грубы, что одна лишь интонация статьи должна насторожить - из вчерашнего дня эта интонация. Написать на вранье прекрасную книгу не удавалось никому и никогда. Вчера восторгаться романом, а сегодня сказать, что автор «просто лжет» - неприлично для взрослого человека, даже если он и не критик. Надо же иметь собственную позицию! Если ее нет - не стоит и браться за перо. Разбирая материал Богомолова, я избегал резких оценок, но теперь деться некуда, скажу: подтасовки, приписки и критика того, что в романе отсутствует, - это и есть ложь. Очевидная и умышленная. А после знакомства с «литературной драмой» Басинского у меня появился новый вопрос: читал ли он вообще владимовский роман или только то, что пишут о «Генерале...» в периодике?..
Маленький эпилог. Удивительно, но и те, кто хвалил, и те, кто хаял «Генерала...», много писали об историчности романа, хотя всякий раз обходили главного героя, Кобрисова. Жуков, Ватутин, Черняховский, Власов, Гудериан - калейдоскоп фамилий, обрывки документов и мемуаров, толкование роли, значения и даже нравственного облика этих личностей с глубокими выводами и обобщениями. А «негромкий командарм» Кобрисов так и остался в тени. Что ж, отчасти оно и справедливо. Значит, сумел Владимов написать своего генерала таким, что свита играет его и в романе, и в последующей литературной жизни.
Значит, состоялся классический роман, и не надо руки заламывать, когда Владимова в «ошибках» уличают. Это Басинский полагает, что роман - «о классическом генерале вне времени и пространства», этакий собирательный образ. Как бы не так! Роман - о русском генерале, который так и не стал до конца советским. Может, и хотел, а не получилось. Были такие генералы. В нашем конкретном времени и тем более - пространстве.
Ключевые слова: Георгий Владимов,«Генерал и его армия»,критика на творчество Георгия Владимова,критика на произведения Георгия Владимова,анализ произведений Георгия Владимова,скачать критику,скачать анализ,скачать бесплатно,русская литература 20 в.
Владимов
Г.Н. «Генерал и его
армия»
Гео́ргий Никола́евич Влади́мов (наст. фам. Волосевич , 19 февраля 1931 , Харьков - 19 октября 2003 , Франкфурт ) - русский писатель.
Родился 19 февраля 1937 в Харькове в учительской семье. Учился в ленинградском Суворовском училище. В 1953 окончил юридический факультет Ленинградского университета. Печатался как литературный критик с 1954 (статьи в журнале «Новый мир», где начал работать: К спору о Ведерникове , Деревня Огнищанка и большой мир , Три дня из жизни Холдена и др.). В 1960 под впечатлением командировки на Курскую магнитную аномалию написал повесть Большая руда (опубл. 1961), вызвавшую дискуссии. Несмотря на внешнее сходство с типичным «производственным» романом, повесть стала одним из программных произведений «шестидесятников». Опубликованный в 1969 роман Три минуты молчания , повествующий в жанре исповедальной прозы о буднях рыболовного лайнера, выдвигает «титульный» лейтмотив о праве каждого на посылку своего сигнала «SOS» и узаконенных морскими (переносно – житейскими) законами трех минутах молчания, когда каждый такой сигнал должен быть услышан. Метафора и достоверность, литературный талант, проникновенно-элегический лиризм и скрытая обличительная мощь определяют ту манеру письма Владимова, которая в наибольшей мере проявится в его повести о караульной собаке Верный Руслан (опубл. в 1975 в ФРГ; в 1989 в СССР), где в рассказе о бескорыстном и преданном охраннике советских лагерей возникает постоянная для писателя тема трансформации лучших человеческих (в т.ч. воплощенных, в духе традиций А.Чехова и Л.Толстого, в образе сторожевого пса) качеств в трагическое «аутсайдерство», бесприютность, ощущение собственной ущербности или ненужности в современном изощренном и лживом мире, в неестественном и антигуманном общественном устройстве.
В 1977 Владимов, выйдя из Союза писателей СССР, становится руководителем московской секции запрещенной в СССР организации «Международная амнистия». В 1982 публикует на Западе рассказ Не обращайте внимания, маэстро . В 1983 эмигрировал в ФРГ, с 1984 – главный редактор эмигрантского журнала «Грани». В 1986 покинул пост, придя «к выводу, что это организация чрезвычайно подозрительная, вредная и бывшая в использовании по борьбе с демократическим движением». С конца 1980-х активно выступал как публицист и в отечественных изданиях. В 1994 на родине публикует роман Генерал и его армия (московская литературная премия «Триумф», 1995), посвященный истории войска генерала А.А.Власова, перешедшего в годы Великой Отечественной войны на сторону гитлеровских войск.
Роман
Владимова, опубликованный в сокращенном
варианте в журнале "Знамя" в 1995
году, получил Букеровскую премию
и вызвал большой литературный скандал.
"Генерал и его армия" подвергся
жестокой критике со всех сторон. Консервативные
литераторы обвинили Владимова, во-первых,
в искажении исторических фактов,
а во-вторых - в проявлении симпатий
к "железному" Гудериану (тут же
припомнили, что сам Владимов с 1983
года живет в Германии). Критики-либералы
заявили, что классический "толстовский
стиль" безнадежно устарел и в
эпоху "смерти литературы" Букера
следует давать, скажем, поющему
эту смерть Владимиру Сорокину. Но
и восторженных отзывов о романе
тоже было более чем достаточно.
Военно-исторический роман "Генерал
и его армия", повествующий о
генерале Кобрисове и взятии плацдарма
Мырятин, оборону которого держали
власовские батальоны, - роман почти
не военный и практически не исторический.
Не исторический потому, что не было никогда
генерала Кобрисова, не было Мырятина
и Предславля (хоть и понятно, что речь
идет о Киеве, а ключевая сюжетная коллизия
романа - Предславль-Киев должен быть
взят генералом с украинской фамилией
- имела место в действительности). Владимов
и не утверждал никогда, что все описанные
им события - правда. "Генерал и его
армия" - не военная книга, так как в
ней отсутствует заявленный в заглавии
второй главный герой - армия. Есть фронтовой
дух, батальные сцены, но армии - будь
то власовцы, немцы или русские - в романе
нет. Войска Кобрисова - ординарец Шестериков,
адъютант Донской, шофер Сиротин и внутренний
враг - майор "Смерша" Светлооков.
Все вместе они и есть главный герой романа,
но фамилия его уже не Кобрисов, а неизвестно
какая, скорее всего - Владимов. "Генерал
и его армия" - психологическая (автобиографическая)
книга, увлекательно написанная в жанре,
для России всегда слишком актуальном.
У Владимова, последнего великого русского реалиста, был только один серьезный недостаток: он мало писал. За четыре десятилетия работы Владимов стал автором только четырех больших вещей. Пятую, автобиографию “Долог путь до Типперэри”, он не успел окончить. Так что появление нового произведения Владимова всегда воспринималось как редкий праздник. Так было в 1994, когда “Знамя” напечатало журнальный вариант романа “Генерал и его армия”. Постмодернисты восприняли этот “старомодный” роман с удивлением, еще большее удивление вызвал его неожиданный успех: букеровское жюри посчитало его лучшим романом года (впоследствии и лучшим романов десятилетия). И это несмотря на то, что в журнальном варианте (четыре главы из семи) потерялся главный “козырь” Владимова, его фирменная искусная композиция. Три эпизода военной биографии генерала Кобрисова - летнее отступление 1941-го, битва за Москву в 1941 г. и битва за Днепр в 1943 г., судьба Власова и власовцев, Гудериан и фон Штайнер - все эти элементы искусно объединены. Переходы всегда красивы и естественны. При обилии отступлений, кажется, ни одного лишнего эпизода, ни одной ненужной фразы. Стиль превосходный. Где нужно - есть и украшения: “светлая бликующая дорожка, пересекавшая реку, запламенела, окрасилась в красно-малиновый. По обеим сторонам дорожки река была еще темной, но, казалось, и там, под темным покровом, она тоже красна, и вся она исходит паром, как дымится свежая, обильная теплой кровью, рана”. Читается роман легко, на одном дыхании. Только тем, что отвыкли мы от мало-мальски серьезной прозы, можно объяснить отсутствие коммерческого успеха.
Но литературу у нас принято оценивать не только по художественным достоинствам, тем более когда речь идет о военном романе. Наталья Иванова как-то посоветовала перечитать роман Георгия Владимова, чтобы узнать, как “бессовестно жертвовали военачальники” жизнями солдат. И хоть люблю и уважаю Наталью Иванову, одного из самых талантливых современных литературных критиков, принять этот совет я не могу. Роман Георгия Владимова резко отличается от военной прозы фронтовиков - Виктора Некрасова, Виктора Астафьева, Василя Быкова, Юрия Бондарева. У фронтовиков главным источником “строительного материала” для нового романа, повести, рассказа был все-таки личный опыт. Но “Генерал и его армия” - не военная проза. В романе Владимова меня прежде всего поразил эпиграф из “Отелло”:
Простите вы, пернатые войска
И гордые сражения, в которых
Считается за доблесть честолюбье.
Все, все прости. Прости, мой ржущий конь,
И звук трубы, и грохот барабана,
И флейты свист, и царственное знамя,
Все почести, вся слава, все величье
И бурные тревоги грозных войн…
Читателю, особенно фронтовику, он покажется чужеродным, театральным, не подходящим. Эпиграф, подобно увертюре в опере, настраивает читателя воспринимать текст так, а не иначе. Строки из пьесы величайшего драматурга всех времен и народов взяты очень удачно: они говорят читателю, что перед ним не окопная правда, а роман-трагедия.
Владимов не успел на фронт (в 1941-м ему было только десять), но к военной теме шел едва ли не всю жизнь. Еще с 1960-х он собирал материалы, документы, занимался “литературной записью” мемуаров военачальников, позднее, в Германии, слушал устные рассказы бывших власовцев. Из этого разнородного материала Владимов создал собственную концепцию Великой Отечественной. Там, где не хватало фактов, писатель додумал, сочинил, но сочинил столь хорошо, что вымышленные факты соседствуют с реальными на равных.
1. Миф о немцах . Он не из самых общепринятых, распространен больше в интеллигентной среде. Особенно популярен у тех, кто много читал немецкие мемуары. Главное здесь - признание абсолютного интеллектуального и профессионального превосходства немецких генералов над нашими: фон Штайнер, “будь у него не столько сил, как у Терещенко, а вполовину меньше, изметелил бы его в несколько часов” . Во-первых, это только в немецких военных мемуарах у Красной Армии войск всегда тьма-тьмущая. Войну-то проиграли, надо ж это как-нибудь объяснить. Странно только, что мы (Владимов тут один из многих) их россказням верим. Ведь врут немецкие мемуаристы ничуть не меньше наших военных, но слово иноземца для нас всегда почему-то весомей слова соотечественника. Неудивительно, что высшей наградой для нашего генерала считается похвала противника. Чтобы подчеркнуть военный талант Кобрисова, Владимов “цитирует” фон Штайнера: “Здесь, на Правобережье, мы дважды наблюдали всплеск русского оперативного гения. В первый раз - когда наступавший против моего левого фланга генерал Кобрисов отважился захватить пустынное, насквозь простреливаемое плато перед Мырятином. Второй его шаг, не менее элегантный, - личное появление на плацдарме в первые же часы высадки” . Ну, насчет второго, то это не “всплеск оперативного гения”, а гусарство, молодечество. Сам Эрих фон Манштейн (прототип фон Штайнера) таких эскапад себе не позволял, равно как не особенно стремился хвалить русских. Он больше ссылался на “подавляющее численное превосходство” советских войск, которым те на самом деле не располагали. Впрочем, маршал Конев в мемуарах тоже не без удовольствия процитировал похвалу Манштейна в свой адрес.
2. Миф о “русской четырехслойной тактике” , когда “три слоя ложатся и заполняют неровности земной коры, четвертый - ползет по ним к победе”. Об этом Владимов не раз пишет: и в связи с антигероем романа, генералом Терещенко (Москаленко), и в связи с Жуковым: “против “русской четырехслойной тактики” не погрешил он до конца, до коронной своей Берлинской операции, положа триста тысяч на Зееловских высотах и в самом Берлине”. Ну да, конечно, наши военачальники солдат не жалели и по-другому воевать не умели. Это не так, не совсем так. Да и в Берлинской наступательной операции не триста тысяч мы потеряли, а почти вчетверо меньше (считая безвозвратные потери, то есть без раненых). Впрочем, образы самих генералов (кроме омерзительного Терещенко) менее всего походят на тех безмозглых и безжалостных мясников, какими рисует их этот миф. “Лейтенант-генерал” Чарновский (Черняховский), “танковый батько” Рыбко (Рыбалко) и даже Жуков показаны как раз людьми умными, талантливыми. Кстати, если не считать упоминания о “русской четырехслойной”, образ Жукова просто великолепен. Никто в нашей литературе не сумел его так описать, несколькими штрихами нарисовать портрет: “высокий, массивный человек, с крупным суровым лицом, в черной кожанке без погон, в полевой фуражке, надетой низко и прямо, ничуть не набекрень, но никакая одежда, ни манера ее носить не скрыли бы в нем военного, рожденного повелевать <…> жесткая волчья ухмылка” .
3. Власовский миф . Власов - у Владимова один из главных героев. Портрет его тоже рисуется немногими штрихами: воспоминание Кобрисова о встрече на военных маневрах, несколько авторских комментариев, размышления самого Кобрисова. Но важнее всего здесь все же эпизод у церкви Андрея Стратилата (даже имя святого Федора Стратилата автор изменил, чтобы подчеркнуть значение Власова-полководца). Власов в этой сцене - спаситель Москвы, посланный едва ли не самим Небом (предвоенная биография Власова становится известной позднее). Реальный Андрей Андреевич Власов не был ни военным гением, ни спасителем Москвы. В битве под Москвой он командовал лишь одной из четырнадцати армий Западного фронта (20-й армией), участвовавших в контрнаступлении. Если уж на то пошло, то роль спасителя Москвы принадлежит все-таки Г.К. Жукову, который как раз командовал Западным фронтом. В 1941-м Власов воевал не хуже и не лучше других. Впрочем, К.А. Мерецков в своих мемуарах отметил его профессионализм, хотя и, разумеется, заклеймил как предателя и ренегата. Кто знает, как в дальнейшем сложилась бы его судьба? Кем бы стал Власов к 1945-му, не попади он в июле 1942-го в плен на Волховском фронте?
Что власовцы сражались едва ли не лучше немцев - правда, что их было немало, увы, тоже правда, но слова, вложенные Владимовым в уста Ватутину: “Мы со своими больше воюем, чем с немцами”, - преувеличение, притом - значительное. Освобождение Праги 1-й дивизией РОА - легенда, которую автор “Генерала”, видимо, услышал от бывших власовцев. Принять участие в освобождении и освободить - совсем не одно и то же. Да и большой доблести в переходе на сторону победителя в последние дни войны я не вижу.
Помимо этих мифов есть в романе Владимова и просто исторические ошибки, ляпы. Только вот нет у меня охоты не то что их перечислять, но даже и специально выискивать, как это любят делать некоторые историки, не признающие и не понимающие художественный вымысел. “Генерал и его армия” все же роман, а не научная монография о взятии Киева. В отличие от историка, писатель не раб источника. Он создает свой мир, где есть свои законы, свои герои и антигерои, своя история и философия. Чтобы понять разницу между историей и вымыслом, давайте сравним Гудериана под Москвой у Владимова с исторической основой - мемуарами самого “быстроходного Гейнца”. Сразу скажу: “Воспоминания солдата” - чтение не самое увлекательное. Больше всего они напоминают мемуары маршала Жукова: тот же сухой деловой стиль военного человека, который не могла исправить никакая “литературная запись”. И вот одну-единственную фразу из “Воспоминаний солдата” о командирском танке, сползшем в овраг, Владимов развертывает в центральное событие всего “гудериановского” эпизода, когда “гений блицкрига” осознает неизбежность поражения.
То, что зануда историк трактовал бы как очевидный исторический ляп, в романе Владимова художественно и психологически оправдано. Невозможно представить, чтобы какой-либо генерал, пусть даже самый безумный и отчаянный, нарушил приказ Верховного главнокомандующего, развернул бы свой “виллис” с тем, чтобы вернуться к своей армии и самому брать Предславль (а название-то какое замечательное, куда лучше, чем Киев). Не отважился на такое генерал Н.Е. Чибисов, прототип генерала Ф.И. Кобрисова. Не решился ослушаться Верховного и К.К. Рокоссовский, когда Сталин перевел его с нацеленного на Берлин 1-го Белорусского на второстепенный 2-й Белорусский. Не решился протестовать и сам Жуков, когда его, “отца” операции “Уран”, Сталин отправил организовывать отвлекающий удар на Западном и Калининском фронтах (чтоб не больно гордился полководец Сталинградской победой). Но чего не бывает в жизни, то вполне возможно и оправдано в романе. Как, например, совершенно фантастический артиллерийский обстрел машины Кобрисова, организованный вездесущим и всеведущим майором Светлооковым. Эта потрясающая сцена еще раз напоминает нам, что роман Георгия Владимова - это вовсе не “новая правда о войне”, а именно литература, вымысел, но вымысел, который выглядит убедительней самой реальности. Рядом с историческим Нефедовым, Светлооков - театральный Яго, он столь же естественен и органичен в мире Владимова, как и переселившийся из “Войны и мира” и сменивший обличие Платон Каратаев (Шестериков). Сражения Великой Отечественной - грандиозная декорация для великой трагедии: отступление, переправа, украденная победа - ее акты.
Простите вы, пернатые войска
И гордые сражения, в которых
Считается за доблесть честолюбъе.
Все, все прости. Прости, мой ржущий конь
И звук трубы, и грохот барабана,
И флейты свист, и царственное знамя,
Все почести, вся слава, все величье
И бурные тревоги грозных войн.
Простите вы, смертельные орудья,
Которых гул несется по земле...
Вильям Шекспир,
"Отелло, венецианский мавр",
акт III
Глава первая. МАЙОР СВЕТЛООКОВ
1
Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопоча покрышками, по истерзанному асфальту - "виллис", "король дорог", колесница нашей Победы. Хлопает на ветру закиданный грязью брезент, мечутся щетки по стеклу, размазывая полупрозрачные секторы, взвихренная слякоть летит за ним, как шлейф, и оседает с шипением.
Так мчится он под небом воюющей России, погромыхивающим непрестанно - громом ли надвигающейся грозы или дальнею канонадой, - свирепый маленький зверь, тупорылый и плосколобый, воющий от злой натуги одолеть пространство, пробиться к своей неведомой цели.
Подчас и для него целые версты пути оказываются непроезжими - из-за воронок, выбивших асфальт во всю ширину и налитых доверху темной жижей, - тогда он переваливает кювет наискось и жрет дорогу, рыча, срывая пласты глины вместе с травою, крутясь в разбитой колее выбравшись с облегчением, опять набирает ход и бежит, бежит за горизонт, а позади остаются мокрые прострелянные перелески с черными сучьями и ворохами опавшей листвы, обгорелые остовы машин, сваленных догнивать за обочиной, и печные трубы деревень и хуторов, испустившие последний свой дым два года назад.
Попадаются ему мосты - из наспех ошкуренных бревен, рядом с прежними, уронившими ржавые фермы в воду, - он бежит по этим бревнам, как по клавишам, подпрыгивая с лязгом, и еще колышется и скрипит настил, когда "виллиса" уже нет и следа, только синий выхлоп дотаивает над черной водою.
Попадаются ему шлагбаумы - и надолго задерживают его, но, обойдя уверенно колонну санитарных фургонов, расчистив себе путь требовательными сигналами, он пробирается к рельсам вплотную и первым прыгает на переезд, едва прогрохочет хвост эшелона.
Попадаются ему "пробки" - из встречных и поперечных потоков, скопища ревущих, отчаянно сигналящих машин иззябшие регулировщицы, с мужественно-девичьими лицами и матерщиною на устах, расшивают эти "пробки", тревожно поглядывая на небо и каждой приближающейся машине издали угрожая жезлом, - для "виллиса", однако ж, отыскивается проход, и потеснившиеся шоферы долго глядят ему вслед с недоумением и невнятной тоскою.
Вот он исчез на спуске, за вершиной холма, и затих - кажется, пал он там, развалился, загнанный до издыхания, - нет, вынырнул на подъеме, песню упрямства поет мотор, и нехотя ползет под колесо тягучая российская верста...
Что была Ставка Верховного Главнокомандования? - для водителя, уже закаменевшего на своем сиденье и смотревшего на дорогу тупо и пристально, помаргивая красными веками, а время от времени, с настойчивостью человека, давно не спавшего, пытаясь раскурить прилипший к губе окурок. Верно, в самом этом слове - "Ставка" - слышалось ему и виделось нечто высокое и устойчивое, вознесшееся над всеми московскими крышами, как островерхий сказочный терем, а у подножья его - долгожданная стоянка, обнесенный стеною и уставленный машинами двор, наподобие постоялого, о котором он где-то слышал или прочел. Туда постоянно кто-нибудь прибывает, кого-нибудь провожают, и течет промеж шоферов нескончаемая беседа - не ниже тех бесед, что ведут их хозяева-генералы в сумрачных тихих палатах, за тяжелыми бархатными шторами, на восьмом этаже. Выше восьмого - прожив предыдущую свою жизнь на первом и единственном - водитель Сиротин не забирался воображением, но и пониже находиться начальству не полагалось, надо же как минимум пол-Москвы наблюдать из окон.
И Сиротин был бы жестоко разочарован, если б узнал, что Ставка себя укрыла глубоко под землей, на станции метро "Кировская", и ее кабинетики разгорожены фанерными щитами, а в вагонах недвижного поезда разместились буфеты и раздевалки. Это было бы совершенно несолидно, это бы выходило поглубже Гитлерова бункера наша, советская Ставка так располагаться не могла, ведь германская-то и высмеивалась за этот "бункер". Да и не нагнал бы тот бункер такого трепету, с каким уходили в подъезд на полусогнутых ватных ногах генералы.
Вот тут, у подножья, куда поместил он себя со своим "виллисом", рассчитывал Сиротин узнать и о своей дальнейшей судьбе, которая могла слиться вновь с судьбою генерала, а могла и отдельным потечь руслом. Если хорошо растопырить уши, можно бы кой-чего у шоферов разведать - как вот разведал же он про этот путь заранее, у коллеги из автороты штаба. Сойдясь для долгого перекура, в ожидании конца совещания, они поговорили сперва об отвлеченном - Сиротин, помнилось, высказал предположение, что, ежели на "виллис" поставить движок от восьми местного "доджа", добрая будет машина, лучшего и желать не надо коллега против этого не возражал, но заметил, что движок у "доджа" великоват и, пожалуй, под "виллисов" капот не влезет, придется специальный кожух наращивать, а это же горб, - и оба нашли согласно, что лучше оставить как есть. Отсюда их разговор склонился к переменам вообще - много ли от них пользы, - коллега себя и здесь заявил сторонником постоянства и, в этой как раз связи, намекнул Сиротину, что вот и у них в армии ожидаются перемены, буквально-таки на днях, неизвестно только, к лучшему оно или к худшему. Какие перемены конкретно, коллега не приоткрыл, сказал лишь, что окончательного решения еще нету, но по тому, как он голос принижал, можно было понять, что решение это придет даже не из штаба фронта, а откуда-то повыше может, с такого высока, что им обоим туда и мыслью не добраться. "Хотя, - сказал вдруг коллега, - ты-то, может, и доберешься. Случаем Москву повидаешь - кланяйся". Выказать удивление - какая могла быть Москва в самый разгар наступления - Сиротину, шоферу командующего, амбиция не позволяла, он лишь кивнул важно, а втайне решил: ничего-то коллега толком не знает, слышал звон отдаленный, а может, сам же этот звон и родил. А вот вышло - не звон, вышло и вправду - Москва! На всякий случай Сиротин тогда же начал готовиться - смонтировал и поставил неезженые покрышки, "родные", то есть американские, которые приберегал до Европы, приварил кронштейн для еще одной бензиновой канистры, даже и этот брезент натянул, который обычно ни при какой погоде не брали, - генерал его не любил: "Душно под ним, - говорил, - как в собачьей будке, и рассредоточиться по-быстрому не дает", то есть через борта повыскакивать при обстреле или бомбежке. Словом, не так уж вышло неожиданно, когда скомандовал генерал: "Запрягай, Сиротин, пообедаем - и в Москву".
Москвы Сиротин не видел ни разу, и ему и радостно было, что внезапно сбывались давнишние, еще довоенные, планы, и беспокойно за генерала, вдруг почему-то отозванного в Ставку, не говоря уже - за себя самого: кого еще придется возить, и не лучше ли на полуторку попроситься, хлопот столько же, а шансов живым остаться, пожалуй, что и побольше, все же кабинка крытая, не всякий осколок пробьет. И было еще чувство - странного облегчения, даже можно сказать, избавления, в чем и себе самому признаться не хотелось.
Он был не первым у генерала, до него уже двое мучеников сменилось - если считать от Воронежа, а именно оттуда и начиналась история армии до этого, по мнению Сиротина, ни армии не было, ни истории, а сплошной мрак и бестолочь. Так вот, от Воронежа - самого генерала и не поцарапало, зато под ним, как в армии говорилось, убило два "виллиса", оба раза с водителями, а один раз и с адъютантом. Вот о чем и ходила стойкая легенда: что самого не берет, он как бы заговоренный, и это как раз и подтверждалось тем, что гибли рядом с ним, буквально в двух шагах. Правда, когда рассказывались подробности, выходило немного иначе, "виллисы" эти убило не совсем под ним. В первый раз - при прямом попадании дальнобойного фугаса - генерал еще не сел в машину, призадержался на минутку на командный пункт командира дивизии и вышел уже к готовой каше. А во второй раз - когда подорвались на противотанковой мине, он уже не сидел, вылез пройтись по дороге, понаблюдать, как замаскировались перед наступлением самоходки, а водителю велел отъехать куда-нибудь с открытого места а тот возьми и сверни в рощу. Между тем, дорога-то была разминирована, а рощу саперы обошли, по ней движение не планировалось... Но какая разница, думал Сиротин, упредил генерал свою гибель или опоздал к ней, в этом и была его заговоренность, да только на его сопровождавших она не распространялась, она лишь с толку сбивала их, она-то и была, если вдуматься, причиной их гибели. Уже подсчитали знатоки, что на каждого убитого в эту войну придется до десяти тонн истраченного металла, Сиротин же и без их подсчетов знал, как трудно убить человека на фронте. Только бы месяца три продержаться, научиться не слушаться ни пуль, ни осколков, а слушать себя, свой озноб безотчетный, который чем безотчетнее, тем верней тебе нашепчет, откуда лучше бы загодя ноги унести, иной раз из самого вроде безопасного блиндажа, из-под семи накатов, да в какой ни то канавке перележать, за ничтожной кочкой, - а блиндаж-то и разнесет по бревнышку, а кочка-то и укроет! Он знал, что спасительное это чувство как бы гаснет без тренировки, если хотя б неделю не побываешь на передовой, но этот генерал передовую не то что бы сильно обожал, однако и не брезговал ею, так что предшественники Сиротина не могли по ней слишком соскучиться, - значит, по собственной дурости погибли, себя не послушались!
С миной - ну, это смешно было. Стал бы он, Сиротин, съезжать в эту рощицу, под сень берез? Да хрена-с-два, хоть перед каждым кустом ему воткни: "Проверено, мин нет", - кто проверял, для того и нет, он свои ноги унес уже, а на твою долю, будь уверен, хоть одну противотанковую мину оставил в спешке да хотя б он всю рощу пузом подмел - известное же дело, раз в год и незаряженная винтовка стреляет! Вот со снарядом было сложнее - на мину ты сам напоролся, а этот тебя выбрал, именно тебя. Кто-то неведомый прочертил ему поднебесный путь, дуновением ветерка подправил ошибку, отнес на две, на три тысячных вправо или влево, и за какие-нибудь секунды - как почувствуешь, что твой единственный, родимый, судьбой предназначенный, уже покинул ствол и спешит к тебе, посвистывая, пожужживая, да ты-то его свиста не услышишь, другие услышат - и сдуру ему покланяются. Однако зачем же было ждать, не укрыться, когда что-то же задержало генерала на том КП? Да то самое, безотчетное, и задержало, вот что надо было почувствовать! В своих размышлениях Сиротин неизменно ощущал превосходство над обоими предшественниками - но, может статься, всего лишь извечное сомнительное превосходство живого над мертвым? - и такая мысль тоже его посещала. В том-то и дело, что закаяно его чувствовать, оно еще хуже сбивает с толку, прогоняя спасительный озноб наука выживания требовала: всегда смиряйся, не уставай просить, чтоб тебя миновало, - тогда, быть может, и пронесет мимо. А главное... главное - тот же озноб ему шептал: с этим генералом он войну не вытянет. Какие причины? Да если назвать их можно, то какая же безотчетность... Где-нибудь оно произойдет и когда-нибудь, но произойдет непременно - вот что над ним всегда висело, отчего бывал он часто уныл и мрачен лишь искушенный взгляд распознал бы за его лихостью, за отчаянно-бравым, франтоватым видом - скрываемое предчувствие. Где-то веревочке конец, говорил он себе, что-то долго она вьется и слишком счастливо, - и уж он мечтал отделаться ранением, а после госпиталя попасть к другому генералу, не такому заговоренному.
Вот, собственно, о каких своих опасениях - ни о чем другом - поведал водитель Сиротин майору Светлоокову из армейской контрразведки "Смерш", когда тот его пригласил на собеседование, или - как говорилось у него - "кое о чем посплетничать". "Только вот что, - сказал он Сиротину, - в отделе у меня не поговоришь, вломятся с какой-нибудь хреновиной, лучше - в другом каком месте. И пока - никому ни слова, потому что... мало ли что. Ладненько?" Свидание их состоялось в недальнем от штаба леске, на опушке, там они сошлись в назначенный час, майор Светлооков сел на поваленную сосну и, сняв фуражку, подставил осеннему солнышку крутой выпуклый лоб, с красной полоскою от околыша, - чем как бы снял и свою начальственность, расположив к откровенной беседе, - Сиротина же пригласил усесться пониже, на травке.
Давай выкладывай, - сказал он, - что тебя точит, о чем кручина у молодца? Я же вижу, от меня же не укроется...
Нехорошо было, что Сиротин рассказывал о таких вещах, которые наука выживания велит держать при себе, но майор Светлооков его тут же понял и посочувствовал.
Ничего, ничего, - сказал он без улыбки, тряхнув энергично своими льняными прядями, забрасывая их подальше назад, - это мы понимать умеем, всю эту мистику. Все суеверию подвержены, не ты один, командующий наш - тоже. И скажу тебе по секрету: не такой он заговоренный. Он про это вспоминать не любит и нашивок за ранения не носит, а было у него по дурости в сорок первом, под Солнечногорском. Хорошо отоварился - восемь пуль в живот. А ты и не знал? И ординарец не рассказывал? Который, между прочим, при сем присутствовал. Я думал, у вас все нараспашку... Ну, наверно, запретил ему Фотий Иванович рассказывать. И мы тоже про это не будем сплетничать, верно?..
Слушай-ка, - он вдруг покосился на Сиротина веселым и пронзающим взглядом, - а может, ты мне тово... дурочку валяешь? А главное про Фотия Иваныча не говоришь, утаиваешь?
Чего мне утаивать?
Странностей за ним не наблюдаешь в последнее время? Учти, кой-кто уже замечает. А ты - ничего?
Сиротин подернул плечом, что могло значить и "не замечал", и "не моего ума дело", однако неясную еще опасность, касающуюся генерала, он уловил, и первым его внутренним движением было отстраниться, хотя б на миг, чтоб только понять, что могло грозить ему самому. Майор Светлооков смотрел на него пристально, взгляд его голубых пронзительных глаз нелегко было выдержать. Похоже, он разгадал смятение Сиротина и этим строгим взглядом возвращал его на место, которого обязан был держаться человек, состоящий в свите командующего, - место преданного слуги, верящего хозяину беспредельно.
Сомнения, подозрения, всякие мерихлюндии ты мне не выкладывай, - сказал майор твердо. - Только факты. Есть они - ты обязан сигнализировать. Командующий - большой человек, заслуженный, ценный, тем более мы обязаны все наши малые силы напрячь, поддержать его, если в чем-то он пошатнулся. Может, устал он. Может, ему сейчас особое душевное внимание требуется. Он ведь с просьбой не обратится, а мы не заметим, упустим момент, потом локти будем кусать. Мы ведь за каждого человека в армии отвечаем, а уж за командующего - что и говорить...
Кто были "мы", отвечающие за каждого человека в армии, он ли с майором или же весь армейский "Смерш", в глазах которого генерал в чем-то "пошатнулся", этого Сиротин не понял, а спросить почему-то не решался. Ему вспомнилось вдруг, что и дружок из автороты штаба тоже эти слова обронил: "пошатнулся малость", - так он, стало быть, не звон отдаленный слышал, а прямо-таки гудение земли. Похоже, генеральское пошатновение, хоть ничем еще не проявленное, уже и не новостью было для некоторых, и вот из-за чего и вызвал его к себе майор Светлооков. Разговор их становился все более затягивающим куда-то, во что-то неприятное, и смутно подумалось, что он, Сиротин, уже совершил малый шажок к предательству, согласившись прийти сюда "посплетничать".
Из глубины леса тянуло предвечерней влажной прохладой, и с нею вкрадчиво сливался вездесущий приторный смрад. Чертовы похоронщики, подумал Сиротин, своих-то подбирают, а немцев - им лень, придется генералу доложить, даст он им прикурить. Неохота было свежих подобрать - теперь носы затыкайте...
Ты мне вот что скажи, - спросил майор Светлооков, - как он, по-твоему, к смерти относится?
Сиротин поднял к нему удивленный взгляд.
Как все мы, грешные...
Не знаешь, - сказал майор строго. - Я вот почему спрашиваю. Сейчас предельно остро ставится вопрос о сохранении командных кадров. Специальное указание Ставки есть, и Верховный подчеркивал неоднократно, чтоб командующие себя не подвергали риску. Слава Богу, не сорок первый год, научились реки форсировать, личное присутствие командующего на переправе - ни к чему. Зачем ему было под обстрелом на пароме переправляться? Может, сознательно себя не бережет? С отчаяния какого-нибудь, со страху, что не справится с операцией? А может, и тово... ну, свих небольшой? Оно и понятно до некоторой степени - операция оч-чень все-таки сложная!..
Пожалуй, Сиротину не показалось бы, что операция была других сложнее, и развивалась она как будто нормально, однако там, наверху, откуда к нему снисходил майор Светлооков, могли быть иные соображения.
Может быть, единичный случай? - размышлял между тем майор. - Так нет же, последовательность какая-то усматривается. Командующий армией свой КП выносит поперед дивизионных, а комдиву что остается? Еще поближе к немцу придвинуться? А полковому - прямо-таки в зубы противнику лезть? Так и будем друг перед дружкой личную храбрость доказывать? Или еще пример: ездите на передовую без охраны, без бронетранспортера, даже радиста с собой не берете. А вот так и нарываются на засаду, вот так и к немцу заскакивают. Иди потом выясняй, доказывай, что не имело места предательство, а просто по ошибке... Это же все предвидеть надо. И предупреждать. И нам с тобой - в первую очередь.
Что ж от меня-то зависит? - спросил Сиротин с облегчением. Предмет собеседования стал ему наконец понятен и сходился с его собственными опасениями. - Шофер же маршрут не выбирает...
Еще б ты командующему указывал!.. Но знать заранее - это в твоей компетенции, верно? Говорит же тебе Фотий Иваныч минут за десять: "Запрягай, Сиротин, в сто шестнадцатую подскочим". Так?
Сиротин подивился такой осведомленности, но возразил:
Не всегда. Другой раз в машину сядет и уж тогда путь говорит.
Тоже верно. Но он же не в одно место едет, за день в трех-четырех хозяйствах побываете: где полчаса, а где и все два. Можешь же ты у него спросить: а куда потом, хватит ли горючего? Вот у тебя и возможность созвониться.
С кем это... созвониться?
Со мной, "с кем". Мы наблюдение организуем, с тем хозяйством свяжемся, куда вы в данный момент путь держите, чтоб выслали встречу. Я понимаю, командующему иной раз хочется нахрапом подъехать, застать все как есть. Так это одно другому не мешает. У нас - своя линия и своя задача. Комдив того знать не будет, когда Фотий Иваныч нагрянет, лишь бы мы знали.
А я-то думал, - сказал Сиротин, усмехаясь, - вы шпионами занимаетесь.
Мы всем занимаемся. Но сейчас главное, чтоб ни на минуту командующий из-под опеки не выпадал. Это ты мне обещаешь?
Сиротин усиленно морщил лоб, выгадывая время. Как будто ничего плохого не было, если всякий раз, куда бы ни направились они с генералом, об этом будет известно майору Светлоокову. Но как-то коробило, что ведь придется ему сообщать скрытно от генерала.
Это как же так? - спросил Сиротин. - От Фотия Иваныча тайком?
Уу! - прогудел майор насмешливо. - Кило презрения у тебя к этому слову. Именно тайком, негласно. Зачем же командующего в это посвящать, беспокоить?
Не знаю, - сказал Сиротин, - как это так можно...
Майор Светлооков вздохнул долгим печальным вздохом.
И я не знаю. А нужно. А приходится. Так что же нам делать? Раньше вот в армии институт комиссаров был - куда как просто! Чего я от тебя уже час добиваюсь, комиссар бы мне, не думая, пообещал. А как иначе? Комиссар и контрразведчик - первые друг другу помощники. Теперь - больше доверия военачальнику, а работать стало куда сложнее. К члену Военного совета не подкатись, он тоже теперь "товарищ генерал", ему это звание дороже комиссарского, станет он такой "чепухой" заниматься! Ну, а мы, скромные людишки, обязаны заниматься, притом - тихой сапой. Да уж, Верховный нам осложнил задачу. Но - не снял ее!
Звонить, ведь оно, знаете... У связиста линия занята. А когда и свободна, тоже так просто не соединит. Ему и сообщить же надо, куда звонишь. Так до Фотия Иваныча дойдет. Нет, это...
Что "нет"? - Майор Светлооков приблизил к нему лицо. Он враз повеселел от такой наивности Сиротина. - Ну, чудак же ты! Неужели так и попросишь: "А соедини-ка меня с майором Светлооковым из "Смерша"? Не-ет, так мы все дело провалим. Но можно же по холостой части. В смысле - по бабьей. Эта линия всегда выручит. Ты Калмыкову из трибунала знаешь? Старшую машинистку.
Сиротину вспомнилось нечто рыхлое, чересчур грудастое и, на его двадцатишестилетний взгляд, сильно пожилое, с непреклонно начальственным лицом, с тонко поджатыми губами, властно покрикивающее на двух подчиненных барышень.
Что, не объект для страсти? - Майор улыбнулся быстро порозовевшим лицом. - Вообще-то на нее охотники имеются. Даже хвалят. Что поделаешь, любовь зла! К тому же, у нас не женский монастырь. Вот в Европу вступим - не в этот год, так в следующий, - там такие монастыри имеются, специально женские. Точней сказать, девичьи. Потому как монашки эти, "кармелитки" называются, клятву насчет девственности дают - до гроба. Во, какая жертва! Так что невинность гарантируется. Бери любую - не ошибешься.
Сверхсуровые эти "кармелитки", в сиротинском воображении соотнесясь почему-то с "карамельками", выглядели куда как маняще и сладостно. Что же до той, грудастой, все-таки не представилось ему, как бы он стал приударять за ней или хотя бы трепаться по телефону.
Зер гут, - согласился майор. - Избираем другой варьянт. Как тебе - Зоечка? Не та, не из трибунала, а которая в штабе телефонисткой. С кудряшками.
Вот эти пепельные кудряшки, свисавшие из-под пилотки спиральками на выпуклый фаянсовый лобик, и взгляд изумленный - маленьких, но таких ярких, блестящих глаз, - и ловко пригнанная гимнастерка, расстегнутая на одну пуговку, никогда не на две, чтоб не нарваться на замечание, и хромовые, пошитые на заказ сапожки, и маникюр на тонких пальчиках - все было куда поближе к желаемому.
Зоечка? - усомнился Сиротин. - Так она же вроде с этим... из оперативного отдела. Чуть не жена ему?
У этого "чуть" одно тайное препятствие имеется - супруга законная в Барнауле. Которая уже письмами политотдел бомбит. И двое отпрысков нежных. Тут придется какие-то меры принимать... Так что Зоечка не отпадает, советую заняться. Подкатись к ней, наведи переправы. И - звони ей откуда только можно. Что, тебя связист не соединит? Шофера командующего? Дело ж понятное, можно сказать - неотложное. Ты только - понахальнее, место свое в армии нужно знать. В общем, ты ей: "Трали-вали, как вы спали?" - и, между прочим, так примерно: "К сожалению, времени в обрез, через часик, ждите, от Иванова звякну". Много болтают по связи, одним трепом больше... Ну, и это не обязательно, мы в дальнейшем шифр установим, на каждое хозяйство свой пароль. Что тебе еще не ясно?
Да как-то оно...
Что "как-то"? Что?! - вскричал майор сердито. И Сиротину не показалось странным, что майор уже вправе и осерчать на него за непонятливость, даже отчитать гневно. - Для себя я, по-твоему, стараюсь? Для сохранения жизни командующего! И твоей, между прочим, жизни. Или ты тоже смерти ищешь?!
И он всердцах, со свистом, хлестнул себя по сапогу невесть откуда взявшимся прутиком - звук как будто ничтожный, но заставивший Сиротина внутренне съежиться и ощутить холодок в низу живота, тот унылый мучительный холодок, что появляется при свисте снаряда, покинувшего ствол, и его шлепке в болотное месиво - звуках самых первых и самых страшных, потому что и грохот лопающейся стали, и фонтанный всплеск вздымающейся трясины, и треск ветвей, срезанных осколками, уже ничем тебе не грозят, уже тебя миновало. Этот дотошный, прилипчивый, всепроникающий майор Светлооков углядел то, что сидело в Сиротине и не давало жить, но он же углядел и большее: что с генералом и впрямь происходит что-то опасное, гибельное - и для него самого, и для окружающих его. Когда, стоя во весь рост на пароме в заметной своей черной кожанке, он так картинно себя подставлял под пули с правого берега, под пули пикирующего "Юнкерса", это не бравада была, не "пример личной храбрости", а то самое, что время от времени постигало иных и называлось - человек ищет смерти.
Вовсе не в отчаянном положении, не в кольце охвата, не под дулами заградотряда, но часто в успешном наступлении, в атаке человек делал бессмысленное, непостижимое: бросался врукопашную один против пятерых, или, встав во весь рост, бросал одну за другой гранаты под движущийся на него танк, или, подбежав к пулеметной амбразуре, лопаткой рубил прыгающий ствол - и почти всегда погибал. Опытный солдат, он отметал все шансы уклониться, выждать, как-нибудь исхитриться. Было ли это в помешательстве, в ослепляющем запале, или так источил ему душу многодневный страх, но слышали те, кто оказывались поблизости, его крик, вмещавший и муку, и злобное торжество, и как бы освобождение... А накануне - как припоминали потом, а может быть, просто выдумывали - бывал этот человек неразговорчив и хмур, жил как-то невпопад, озирался непонятным, в себя упрятанным взглядом, точно уже провидел завтрашнее. Сиротин этих людей не мог постичь, но то, что их повлекло умереть так поспешно, было, в конце концов, их дело, они за собой никого не звали, не тащили, а генерал и звал, и тащил. Чего ему, спрашивается, не сиделось в скорлупе бронетранспортера, который был же рядом на пароме? И не подумалось ему, что так же картинно под те же пули подставляли себя и люди, обязанные находиться при нем неотлучно? Но вот нашелся же один, кто все понял, разглядел юрким глазом генеральские игры со смертью и пресечет их своим вмешательством. Как это ему удастся, ну вот хотя бы как отведет он в небе шальной снаряд, почему-то Сиротина не озадачивало, как-то само собою разумелось, хотелось лишь всячески облегчить задачу этому озабоченному всесильному майору, рассказать поподробнее о странностях генеральского поведения, чтобы учел в каких-то своих расчетах.
Майор его слушал не перебивая, понимающе кивал, иной раз вздыхал или цокал языком, затем далеко отшвырнул свой прутик и передвинул на колени планшетку. Развернув ее, стал разглядывать какой-то листок, упрятанный под желтым целлулоидом.
Так,- сказал он, - на этом покамест закруглимся. На-ка вот, распишись мне тут.
Насчет чего? - споткнулся разлетевшийся Сиротин.
Насчет неразглашения. Разговору нас, как ты понимаешь, не для любых ушей.
Так... зачем же? Я разглашать не собираюсь.
Тем более, чего ж не расписаться? Давай не ломайся.
Сиротин, уже взяв карандашик, увидел, что расписаться ему следует в самом низу листка, исписанного витиеватым изящным почерком, наклоненным влево.
Тезисы, - пояснил майор. - Это я схемку набросал, как у нас примерно пойдет беседа. Видишь - сошлось, в общем и целом.
Сиротина удивило это, но отчасти и успокоило. В конце концов, не сообщил он этому майору ничего такого, чего тот не знал заранее. И он расписался нетвердыми пальцами.
И всего делов. - Майор, усмехаясь Сиротину, застегнул аккуратно планшетку, откинул ее за спину и встал. - А ты, дурочка, боялась. Пригладь юбку, пошли.
Он вышагивал впереди, крепко переступая налитыми, обтянутыми мягким хромом ногами балетного танцовщика, планшетка и пистолет елозили и подпрыгивали на его крутых ягодицах, и у Сиротина было то ощущение, что у девицы, возвращающейся из лесу вслед за остывшим уже соблазнителем и которая тем пытается умерить уязвление души, что сопротивлялась как могла.
А кстати, - майор вдруг обернулся, и Сиротин едва не налетел на него, - раз уже нас на эти темы клонит... Может, ты мне сон объяснишь? Умеешь сны отгадывать? Значит, прижал я хорошего бабца в подходящей обстановке. В уши ей заливаю - про сирень там, про Пушкина-Лермонтова, а под юбкой шурую - вежливо, но неотвратимо, с честными намерениями. И все, ты понимаешь, чинненько, вот-вот до дела дойдет. Как вдруг - ты представляешь? - чувствую: мужик! Мать честная, с мужиком это я обжимался, чуть боекомплект не растратил. Что скажешь? В холодном поту просыпаюсь. И к чему бы это?
| | | | | | | | | | | | ]