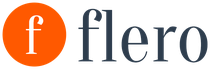СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ
С.И. Голод
СЕМЬЯ: ПРОКРЕАЦИЯ, ГЕДОНИЗМ, ГОМОСЕКСУАЛИЗМ
В статье речь идет об эволюции семьи. Мы указали на три семейных
типа: «традиционный», «детоцентристский» и «супружеский». Первый
просуществовал с римских веков до XVII в., а именно, до таких философов, как Дж. Локк и Рене Декарт, а с XVIII в. ему на смену пришел,
как говорил Ф. Ариес, «век детоцентризма», продолжавшийся в течение почти двух веков. И только в XX в. он сменился «супружеским» типом (или, говоря другими словами, модернизмом), или, как говорил немецкий социолог У. Бек, - веком «риска». С последним связано широкое распространение контрацептивов, что привело к новому положению женщин - они стали в достаточной мере эмансипированы.
Ключевые слова: современная семья, гомосексуализм, традиционная семья, детоцентристская семья, супружеская (модернистская) семья, трансформация интимности.
Key words: modern family, homosexuality, traditional family, childcentered family, conjugal (modernist) family, transformation of intimacy.
Начиная с 1960-х гг. исследователи во многих странах выражают озабоченность «кризисным» состоянием моногамии, ставя это явление в прямую зависимость от ряда глобальных социальных изменений.
Трудно согласиться с негативной оценкой современного статуса семьи не только филистерами, но и специалистами (демографами, антропологами, социологами, психологами). Ибо институт семьи - о чем свидетельствует его многовековая история (подтвержденная изысканиями от Л. Моргана, Б. Малиновского, Ф. Энгельса и Ф. Ле Пле до У. Гуда, Р. Хилла, Л. Русселя и А. Харчева) - оказался наиболее стабильной общностью.
Голод С.И. Семья: прокреация, гедонизм, гомосексуализм Так, например, в одном из отечественных исследований конца XIX в.
читаем: «Цель брака - христианское рождение и воспитание детей, половой инстинкт признается нечестивым, удовлетворение его ради одного удовольствия - смертельный грех; поэтому целью брака религия ставит рождение и воспитание добрых христиан, освящая плотский и сам по себе греховный союз благодатью таинства» (Шишков 1898: т. 1, 141).
Всю эру существования обозначенной модели семьи (патриархальной) акцент делался на исключительную инициативу мужа. По Плутарху, замужняя женщина не должна в своей повседневной жизни уклоняться от физической близости с мужем, но и сама, в свою очередь, не должна напрашиваться на такую близость (Плутарх 1983: 351).
В самом деле, сексуальные отношения до брака, рождение ребенка вне брака и самоценность эротического общения мужа и жены считались нарушением социокультурных норм. К нарушителям обычаев применялись различные по жесткости санкции. Согласно Н.Л. Пушкаревой, проведшей сравнительный анализ принципов семьи и сексуальной этики в православии и католицизме, в первом наказания за несохранение девственности до замужества, различные чувственные проявления сексуальности в браке, прелюбодеяние были не столь суровыми, как во втором. Наказания в православной традиции по преимуществу ограничивались определенным количеством постов (от нескольких дней до двух лет), многочисленными поклонами, чистосердечным раскаянием и покаяниями. Все же, несмотря на относительную мягкость, разумеется, и православие требовало от прихожан брачной верности, умерения страстей, разумных ограничений в сексуальной жизни, недопустимости адюльтера (Пушкарева 1995: 55–59).
Конечно, мы не погрешим против истины, если выскажем гипотезу о том, что нормативные социокультурные требования и реальные практики в европейском докапиталистическом обществе зависели от конкретных условий места и времени и в той или иной степени не совпадали друг с другом. В течение всего периода существования семьи такого типа все сводилось к продолжению рода и никто не задумывался о другой стороне сексуальности, т.е. о получении эмоционального удовольствия от самого факта гедонистической близости мужчин и женщин. Этот факт стал намечаться в начале XVIII в.
с помощью различных манипуляций непосредственно с телом при помощи, в первую очередь, мастурбирования и прочих процедур (скажем, куннилингуса).
Древнегреческий законодатель Солон (IV в. до н. э.) открыл первые в Европе доктерионы. Вероятность посещения их женатыми мужчинами вовсе не исключалась уже потому, что последние обладали функцией экстерриториальности. Вот где, по-видимому, зародилась «двойная»
Социология семьи мораль (см. об этом: Голод 1996: 188). Примерно к этому же периоду относится и возникновение гетеризма как одной из разновидностей экспрессивной связи вне института семьи. Свидетельством наличия и другого типа внебрачной связи, нередко заканчивавшейся рождением «нелегитимного» ребенка, являлся конкубинат. И хотя ни первый, ни второй, как будто бы, не имели широкого распространения, они вместе с тем подвергались правовым, моральным, а впоследствии, с зарождением христианства, и религиозным санкциям, а по мере укрепления патриархальности эти меры ужесточались.
Несмотря на это обстоятельство, нормы нарушались обоими полами, особенно аристократией. Эту мысль изысканно артикулировали французы (романтики). В нашем обществе, говорили они, обладать вне брака женщиной - великая честь, какой только может гордиться мужчина, но, с другой стороны, отдаться вне брака мужчине - худший позор для женщины. Право же, в этом вопросе «сильный» пол проявлял откровенную наивность. В реальных обстоятельствах француженку, по меньшей мере со времен Средневековья, никакая опасность не останавливала; больше того, она делала ее поведение более пикантным и азартным. Так, по утверждению Симоны де Бовуар, женщины свободолюбивой, хотя и далеко не оригинальной: «… выйти замуж - это вроде обязанности, а вот иметь любовника - это роскошь, шик … У любовника есть … преимущество, его престиж не теряется в повседневной жизни, полной различных трений … Его нет рядом, он совсем не такой, как тот, что рядом, он - другой (курсив мой - С. Г.). И у женщины при встрече с ним возникает впечатление, что она выходит за свои пределы, получает доступ к новым ценностям» (Бовуар 1997: 623–624).
Существование отдельных нетрадиционных поступков не исключало вместе с тем поддержки в общественном сознании представления о брачности и брачной рождаемости как социальной норме. И действительно, если иметь в виду Россию, то здесь вплоть до конца XIX в. браки носили, по сути, всеобщий характер: к возрасту 45–49 лет лишь 4 % мужчин и 5 % женщин оставались соответственно неженатыми и незамужними (см. об этом: Волков 1986: 108). Стало быть, можно с большой вероятностью утверждать, что со времен Римской империи и вплоть до конца XIX в. институт брака обладал монополией на регулирование сексуальных отношений и воспроизводство детей*. Отсюда человек «традиТо же самое можно сказать и о Германии: «вероятность того, что немец или немка в конце XX в. хотя бы один раз в жизни вступит в брак, составляла 60 % против 90 % сорок лет назад» (см.: Schmidt 2002: 56).
Голод С.И. Семья: прокреация, гедонизм, гомосексуализм ционной» эпохи, не состоявший в браке или не имеющий детей, ощущал свою ущербность.
В научном плане становится все более очевидным, что явления в брачной, сексуальной (эротической) и прокреационной сферах, вскрытые во второй половине XX столетия, уже не могут интерпретироваться однозначно как отклонения от нормы, а должны скорее рассматриваться как признак существенных и необратимых трансформационных сдвигов в самом институте семьи. Таковы тенденции к снижению рождаемости, малодетности и сознательной бездетности, нарастанию повторных браков (американский социолог П. Лэндис обозначил этот феномен как «последовательно полигамный союз»), характерные для большинства индустриально развитых стран (см.: Adams 1986: 347), в число которых, несомненно, входит и Россия.
В принципе, мы солидарны с точкой зрения английского социолога З. Баумана, который высказал мнение о том, что «компетенция социологии кончается там, где начинается будущее. … Претендуя на знание, она ставит под угрозу свою профессиональную добросовестность.
Социология развивалась как ретроспективная мудрость, а не как современная версия проницательности» (Бауман 2006: 115). Пренебрежение этим, казалось бы, прозрачным положением открывает простор для тенденциозности и идеологических искажений.
Вот, к примеру, лишь несколько типичных мифологем. Отечественный социолог в конце 70-х гг.
Прошлого века прогнозирует: «упрочение эмоциональных связей с родственниками, уменьшение количества бездетных и неполных семей» (Харчев 1979: 347, 453, 357). Однако к настоящему времени (т. е. в первом десятилетии XXI в.) сокращения числа неполных и бездетных семей не обозначилось; мало того, их доля год от года нарастает. В аналогичном ключе высказался и российский футуролог. Со ссылкой на изучение некоей «глобальной демографической ситуации» обывателю внушается, что за рамками первых десятилетий XXI в. «не будет существовать ни одиночек, ни однодетных семей, ни разводов» (Бестужев-Лада 1986: 183).
Наступила пора оценить попытки «пафосной» риторики наших современников. Мы вынуждены констатировать некомпетентность таких прорицателей, натужность попыток предсказать будущность в конкретной области социологического знания. Вместе с тем мы вполне разделяем удачные попытки общетеоретического анализа тех или иных социальных институтов. Например, такого аналитика, как известного американского специалиста в области исследования семьи Р. Хилла, который отмечал следующие изменения, обусловленные принципиальной трансформацией этого института: «С утратой семьей своей функСоциология семьи ции как производственной единицы и включением молодых людей в сложную внесемейную профессиональную структуру молодая пара получает не только жилищную и профессиональную автономию, но также и автономию в своих решениях в сфере воспроизводства. Как вертикальные, так и горизонтальные связи с родственниками являются добровольными и необязательными, позволяющими экстенсивный обмен вещами и услугами, не нарушая оси преданности и любви, которая сейчас сдвинулась от межгенерационных единокровных уз в сторону супружеских отношений (курсив мой - С. Г.)» (Хилл 1977: 203–204).
Детализируя эту мысль, английский социолог Э. Гидденс пишет:
«… теперь, когда зачатие не только контролируемо, но осуществляемо искусственно, сексуальность, наконец, стала полностью автономной. Освобожденная эротика стала свойством индивида и его взаимоотношений с другими лицами» (Giddens 1992: 25–26).
По существу к тому же выводу, но с иных позиций, пришли и российские демографы. При изучении современного типа прокреативного поведения исследователи столкнулись с парадоксальным фактом. Сегодня одна женщина, состоящая в браке, на протяжении всего репродуктивного периода (границы которого, не секрет, расширились до 35 лет) могла бы родить десять-двенадцать детей (эта величина получена в результате наблюдения за населением с самой высокой рождаемостью). Реально же европейская женщина рождает сегодня в среднем одного - двух детей. В чем же дело? Оказывается, за резким снижением рождаемости скрываются огромные перемены в структуре демографического поведения. Массовое репродуктивное поведение обособилось от сексуального и стало автономным (Вишневский 1976: 138).
Во-вторых, сексуальность раздвигает границы своего распространения. Выходя за пределы брака, она приобретает в равной мере существенное (гедонистическое) значение как для мужчин, так и для женщин. Происходит активная переориентация на возможность таких отношений вне института брака. Все названные перемены способствовали зарождению новой системы ценностей и идеалов. Представляется, что произошедшие изменения по их характеру, глубине и значению могут быть названы революционными. В связи с этим актуализировалась проблема нахождения критерия, позволяющего оценить с позиции нравственности практику человека в приватной сфере.
Не менее существенные сдвиги характеризуют процесс рождаемости. В частности, за последние десятилетия, как выборочные данные по разным регионам бывшего Союза, так и всероссийская статистика фиксируют довольно стабильный рост до- и внебрачных зачатий. Так, мой собственный анализ архивного материала Ленинградского дворца «МаГолод С.И. Семья: прокреация, гедонизм, гомосексуализм лютка» показал: из 287 супружеских пар, зарегистрировавших в торжественной обстановке в декабре 1963 г. рождение первенца, 63 (или 24 %) зачали ребенка в среднем за три месяца до юридического оформления брака; в декабре 1968 г. из 852 пар таких оказалось 196 (или 23 %), в декабре 1973 г. из 851 пары до регистрации брака зачали ребенка 240 пар (или 28 %) и, наконец, в декабре 1978 г. из 643 пар -243 пары (или 38 %). Аналогичная тенденция подтверждается и при рассмотрении регистрационных актов за тот же период по Московскому району Ленинграда.
Более того, реальным фактом стала и внебрачная рождаемость.
Согласно всероссийским данным, с 1970-х гг. начался рост доли внебрачных рождений в общем объеме рождений. Число рождений вне зарегистрированного (нелегитимного) брака повысилось за период с 2000–2004 гг. на 31,8 %, сохраняя тренд изменений, существующих с 1994 г. В результате доля внебрачных рождений продолжает расти и уже достигла почти 30 % общего числа родившихся. Доля внебрачных рождений составила в 2003 г. в городах - 28,6 %, у сельского населения - 32,6 %.
В то же время однозначно интерпретировать абсолютный и относительный рост внебрачных рождений как рост рождаемости у одиноких матерей мешает одно важное обстоятельство: число рождений, зарегистрированных на основании заявления от обоих родителей, увеличивается еще быстрее, чем общее число родившихся вне зарегистрированного брака. По сравнению с 1999 г. эта категория родившихся увеличилась на 37,1 %. Темпы увеличения рождений, зарегистрированных на основании заявления одной матери, в последние годы снижаются. Доля внебрачных новорожденных детей, признанных своими отцами (что на практике чаще всего происходит с полного согласия матери ребенка), приближается к половине - 48,4 % в 2003 г. В городском населении доля рождений, зарегистрированных на основе совместного заявления родителей, в общем числе внебрачных рождений увеличивалась непрерывно, по крайней мере с конца 1980-х гг. В 1980 г. эта доля составляла 36,6 %, а в 2003 г. впервые в истории превысила половину всех внебрачных рождений - 50,5 % (см.: Население России 2006: 257). Не есть ли это свидетельство достаточно прочных отношений, связывающих между собой родителей, по каким-либо причинам не регистрирующих эти отношения как брачные?
Текущая статистика дает возможность отслеживать три совокупности родившихся: 1) зарегистрированные родителями, состоящими в юридически оформленном браке; 2) зарегистрированные по совместному заявлению родителей, формально не являющихся супругами (с включением тех детей, в отношении которых отцовство было устаСоциология семьи новлено в судебном порядке); 3) зарегистрированные по заявлению только матери или по представлению служб родовспоможения, домов ребенка, если матери отказались от ребенка сразу после его рождения, а также «подкидыши» и прочие, в отношении которых материнство к моменту регистрации не установлено.
Подобная практика учета родившихся не позволяет с должным основанием судить о распространенности рождений в браке или вне его.
Но все же можно предположить, что регистрация новорожденного по совместному заявлению родителей свидетельствует о более или менее устойчивых связях между ними и что эти связи во многих случаях и представляют собой фактический брак.
Логично встает вопрос: так ли «одиноки» все матери, производящие на свет «внебрачных» детей? Без соответствующей информации о взаимоотношениях между партнерами ответить на этот вопрос трудно, а такой информации у нас явно недостаточно. Но все же кое-какие сведения, позволяющие судить о тенденциях внебрачной рождаемости, в нашем распоряжении имеются. Представляется, что доля рождений, зарегистрированных на основании совместного заявления родителей, интенсивно растет у городского населения (а это - три четверти населения России). С 1988 по 2001 г. она увеличилась с 36,6 % до 48,9 %. Велико искушение связать ускорение роста внебрачной рождаемости в 1990-е гг. с тяжелыми социально-экономическими преобразованиями.
К тому же нельзя не видеть, что речь здесь вообще идет не о чисто российском или постсоветском феномене. Рост внебрачной рождаемости в последние десятилетия XX в. - универсальная тенденция, обозначившаяся в большинстве промышленных городских обществ. К концу столетия в ряду экономически развитых стран Россия занимает серединное положение как по уровню показателей «внебрачной» рождаемости, так и по темпам их изменения (см. табл. 1).
Нельзя пройти и мимо возрастных особенностей внебрачной рождаемости. Еще не так давно рождение внебрачного ребенка было характерно для очень молодых матерей (до 20 лет) и для матерей старше 30 лет (см.: Голод 1984: 6). К концу века можно было утверждать, что внебрачная рождаемость теперь характерна для всех возрастов в равной степени - доля рождений вне зарегистрированного брака интенсивнее всего росла в возрастах максимальной брачности, достигая в возрастах от 20 до 35 лет 25–27 % (Иванова, Михеева 1999: 72–76). И, что важно подчеркнуть: увеличение доли внебрачных рождений у самых молодых матерей (до 20 лет) с 20,2 % в 1990 г. до 41 % в 2000 г. не сопровождалось ростом числа абортов.
Голод С.И. Семья: прокреация, гедонизм, гомосексуализм
– – –
Произошло не только изменение в ориентациях молодых людей на возможность предварительной сексуальной практики до оформления официальной регистрации брачного союза, но и переосмысление моральности «параллельных» супружеству эротических контактов (адюльтера).
Я трижды с интервалом в 20 лет (1969 г., 1989 г. и 2009 г.) опросил в Ленинграде (Петербурге) интеллектуалов*. Мужчин и женщин просили проранжировать восемь показателей (в число которых входил и фактор «сексуальность»), исходя из важности каждого из них для бесконфликтного протекания «брачных отношений». У мужчин во всех подвыборках «физическая близость» разместилась между второй и третьей ступенями шкалы, а удельный вес в течение рассматриваемого промежутка времени практически оставался неизменным. Иное положение дел наблюдалось у женщин. В течение первых двух десятилетий роль сексуальности в супружестве у них выросла почти на 10 %, фактор «физическая близость» переместился на шкале «приоритетов» на второе место. Более того, выяснилось, что около 40 % мужей (во всех подвыборках) испытывали эротическое наслаждение (оргазм), среди жен в 1969 г. таких насчитывалось менее 30 %, тогда как в 2009 г. этот показатель достиг почти 45 %. За тот же период число «безразличных»
и «неудовлетворенных» брачной сексуальностью уменьшилось, в подТ.е. людей с высшим образованием, продолжающих свое постдипломное обучение в соответствующих вузах и академических учреждениях; каждый раз по 250 респондентов, состоящих в браке с 24 по 45 лет.
Социология семьи выборках мужчин почти вдвое, у женщин - в 2,5 раза. Наряду с количественными трансформациями были отмечены и качественные изменения. Жены, как правило, не просто ждали эффекта от чувственного наслаждения (в отличие от плутарховой спартанки, поведение которой невольно ассоциировалось с «патриархальным» этапом в развитии семьи), но предпринимали активные действия, реализуя принцип «отдаваясь - брать». Проявилось основание констатировать: в рамках брачного союза женщины стали интенсивнее мужчин усваивать ценности «материально-телесного низа» (М. Бахтин). Исходя из традиционного фемининного стереотипа (воспринимать женщин как «слабый» пол) логично было бы ожидать, что рост значимости для них супружеского эротизма ужесточит отношение к адюльтеру. Верна ли гипотеза? Остановимся исключительно на первых двух выборках (в силу их большей разработанности).
В конце 60-х годов прошлого века 35 % интеллектуалок оправдывали возможность «параллельных» сексуальных практик, 38 % высказались по этому поводу амбивалентно и 27 % их осудили. Через двадцать лет (т. е. в 1980-х гг.) зафиксированы в принципе близкие соотношения ориентаций: 36 %, 33 % и 31 %. Некритическое восприятие представленного цифрового материала способно создать впечатление отсутствия корреляции между интенсификацией супружеского эротического наслаждения и веером вербальных предпочтений. Задумаемся над такими показателями: среди жен, получающих удовольствие от плотской близости с мужем, число «оправдывающих» адюльтер (за обсуждаемый промежуток времени) осталось неизменным, тогда как количество «осуждающих» возросло на 12 пунктов. Иначе обстоят дела у тех замужних женщин, которые индифферентны к такого рода отношениям - здесь число лиц, «оправдывающих» «параллельные» связи, возросло на треть.
Важно отметить и другое: если в первом опросе на реальность сексуальных контактов помимо мужа указала треть женщин, то во втором - почти каждая вторая. Установлено рассогласование между аттитюдами и актуальным поведением: в 1969 г. среди замужних женщин из числа «оправдывающих» адюльтер половина его практиковала, к 1989 г. таких насчитывалось более 70 %. Таким образом, у «осуждающих» динамика такова: в первом случае около 6 % состояли в «параллельных» сексуальных контактах, во втором - 25 %.
Незначительные колебания в долях аттитюдов сопровождались куда более радикальными переменами в актуальном поведении. Так, если в 1969 г. на наличие «параллельных» сексуальных практик указало менее 50 % респонденток, то в 1989 г. - более 75 %. Примечательно, что активизация таких практик зафиксирована как среди «оправдывающих»
Голод С.И. Семья: прокреация, гедонизм, гомосексуализм (62 % против 94 %), так и среди «осуждающих» их (12 % против 25 %). Заметим, что если количественные показатели женской нелегитимной эротики до сих пор достаточно отличаются от показателей мужской, то темпы прироста, несомненно, близки. Само собой разумеется, это не означает, что нами предсказывается «выравнивание» указанных практик где-то на горизонте. Мы ни в коем случае не рискуем предсказывать это, во-первых, памятуя об отмеченном выше ретроспективном характере социологического знания; во-вторых, понимая малую предсказуемость женской эмоциональной реакции и плюральность его потенциала.
Побудительные мотивы нелегитимных практик по большей части созвучны типу партнера. А именно: если близость зиждется на любовном чувстве, то партнерша/партнер обозначается как «любимая(-ый)», если на гедонизме - называется «подруга/друг», если же контакт случайный, то партнер - «малознакомая/знакомый» или просто - «проститутка/хаслер».
Активизация внебрачной рождаемости, по нашему мнению, без сомнения, сопряжена с трансформацией нравственного сознания. Вот для иллюстрации весьма выразительный случай. При опросе 323 молодых незамужних работниц Минского камвольного комбината им был задан следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что девушке позорно иметь внебрачного ребенка?». Учитывая форму постановки вопроса («лобовой») и смысловую значимость подсказки: «позорно - не позорно» (терминология, имеющая откровенно негативный оттенок), а также специфику выборочной совокупности (женщины-мигрантки, проживающие в общежитии, с невысоким уровнем образования, т. е. группа с наибольшей моральной инертностью), следовало ожидать однозначной отрицательной реакции (тем более что опрос проводился в конце «суровых»
1970-х гг.). На самом же деле 13,6 % ответили: «не позорно» и еще около 20 % не поддержали ни одну из крайних позиций, стало быть, они уже усомнились в безусловной справедливости традиционного стереотипа.
Но даже те, кто осудил внебрачную рождаемость, когда перед ними был поставлен вопрос в проективной, опосредованной форме: «Что бы Вы сделали, если бы Ваш брат решил жениться на девушке, имеющей внебрачного ребенка?» - проявили значительную гибкость. Более 60 % респондентов ответили: «Ничего бы не сделала. Ребенок не помеха», и только 20 % ответили, что попытались бы воспрепятствовать такому браку (Яковлева 1979: 7). Моральная пермиссивность - налицо. Самое неожиданное открытие - это то, что определенное количество женщин не воспринимают деторождение как исключительно брачный атрибут.
И такое фиксируется не только в Белоруссии: например, об этом говорят и данные по Сибири (см.: Иванова, Михеева 1999: 142).
Социология семьи Несколько ранее это же явление зафиксировали демографы из Латвии: «Отдельные ответы, - замечают Ш. Шлиндман и П. Звидриньш, - свидетельствуют о том, что некоторые женщины удовлетворены отсутствием детей в семье и считают бездетную семью даже идеальной»
(Шлиндман, Звидриньш 1973: 57). Если же судить по нашим опросным данным (Ленинград, 1981 г.), из числа 250 семей примерно каждая третья супружеская пара - фактически не имеющих детей - считала рождение ребенка даже помехой для гармоничного супружества (женщины больше, чем мужчины: 35,6 % против 28,9 %), по крайней мере, на начальной стадии функционирования этого института. И, наконец, согласно выборочному обследованию молодых семей, проведенному Госкомстатом Российской федерации в конце 1992 г., 2 % вообще не хотят иметь детей (Семья в Российской Федерации 1994: 125).
Приведенная динамика показателей, без сомнения, высветила фундаментальный процесс, суть которого - автономизация матримониального, сексуального и прокреативного поведения, что уже ранее было подмечено Хиллом и Гидденсом. Схематично эту ситуацию можно представить следующим образом (см. рис. 1).
Что же следует из принципа автономии? С социологической точки зрения, обнаруживается неоднозначность, ненавязчивость, гибкость нормативной системы. Действительно, предпочтительно, но необязательно вступать в брак, желательно иметь детей, но и бездетность в настоящее время не представляется аномальной. Хотя, как известно, лет 30–40 тому назад даже некоторые специалисты (демографы и социологи) воспринимали бездетность как нарушение нормы.
Не стану, пожалуй, оценивать эти позиции с современной точки зрения - лишь только воспроизведу их буквально. Согласно московскому демографу Л.Е. Дарскому: «Можно спорить о наилучшем числе детей в семье, но бездетная семья есть явление патологическое с любой точки зрения» (Дарский 1972: 129). А вот позиция ленинградского социолога В. Голофаста: «По прошествии некоторого времени [после вступления в брак - С. Г.], если исчерпаны все допустимые возможности объяснения (учеба, отсутствие своего жилья и т. п.), бездетность становится предметом пристального оценивающего внимания и самих супругов, и родственников, и окружающих посторонних лиц.
Наступает момент (раньше всего, видимо, для самих супругов), когда данное положение квалифицируется как ненормальное» (Голофаст 1972: 65).
Не воспринимаются сегодня маргиналами дети, рожденные вне легитимно оформленного брачного союза. Можно, следовательно, заключить, что современная нормативность, будучи общественным регулятоГолод С.И. Семья: прокреация, гедонизм, гомосексуализм «Традиционное» «Современное»
состояние состояние
– – –
ром, в большей мере учитывает индивидуальное своеобразие человека, чем нормативность традиционная (жесткая).
Жалобы на слабость «современной» семьи отнюдь не наивны. С этим мы столкнулись в связи с образованием нового учреждения - Социологического института в рамках «Большого» института Академии наук.
Здесь мы сразу же организовали группу «Социология семьи, гендерных и сексуальных исследований» - кстати, первую в Советском Союзе.
Еще до этой поры во время защиты мною докторской диссертации по теме «Стабильность семьи: социологические и демографические аспекты», когда была выдвинута идея понятия «супружества» как нового явления в семье, то возникло сомнение: зачем нужен такой феномен? Для чего он необходим? Возникло недоумение и у доктора философских наук И.С. Кона. Дело в том, что переход к браку не по расчету, а по самостоятельному выбору партнера привел нас к новому пониманию всего построения брачных отношений, которые опираются сегодня на психологические начала.
И именно это делало брак менее устойчивым:
скажем, неодинаковая продолжительность любовного чувства, уменьшение размеров семьи - прожить вдвоем, не надоев друг другу, пятьдесят лет гораздо труднее, чем прожить 15–20 лет в большом семейном Социология семьи коллективе. Нельзя забывать о бесчисленных соблазнах, которым подвергает современного человека электронная сеть: по сравнению с идеальными образцами наших предшественников, избранники сплошь и рядом выглядят недостаточно привлекательными. Но в последних трех поколениях они настолько укоренились, что социологи сегодня заговорили о настоящей «семейной» революции, которая изменяет общество еще сильнее, чем «сексуальная» революция 1960–70-х гг. При когортном исследовании трех последних поколений мужчин и женщин выяснилось, что более молодые люди вступают в брак реже и позднее, чем это происходило ранее, и в последних когортах заметнее распадаются браки. Брак утрачивает свою монополию на оправдание сексуальности и легитимацию партнерских и семейных отношений. Сегодня «парой»
фактически признается любой союз, где двое людей говорят, что они образуют единое целое, независимо от их семейного статуса и пола партнера, а «семьей» считается любая пара, имеющая детей, независимо от того, зарегистрированы ли их отношения и воспитывают ли детей в одном или двух домохозяйствах. (Это еще раз подтверждает идею полифункциональности современной семьи).
Как показало первое общероссийское демографическое исследование, сходные тенденции существуют и в России. С середины 1990-х гг.
средний возраст жениха увеличился более чем на два года, а невесты - почти на два года. В то же время произошло снижение не только возраста сексуального дебюта, но и возраста установления первых партнерских отношений. Сегодня, как утверждает один из современных демографов, не менее 25 % женщин и не менее 45 % мужчин к 25 годам отношения со своим партнером не регистрировали (Захаров 2007: 126).
По словам И.С. Кона, в клерикальных кругах это вызывает панику, но призывы прекратить дальнейшее распространение «нелегитимных»
сожительств не находит сочувствия у современной молодежи. Консенсуальные или, как их теперь называют, гражданские браки, перестали считаться девиантными и стали привычным вариантом нормы. Главный сдвиг в брачно-семейных отношениях заключается в изменении критериев оценки: формальные количественные и объективные показатели сменяются качественными.
Признание плюральности эротического ландшафта вовсе не означает безоговорочного принятия всех его форм. Я имею в виду, в частности, так называемую гомосексуальную семью. Даже ее сторонники, например, В.В. Солодников, заявляют, «что отношение к гомосексуальности по сей день даже среди профессионалов остается неоднозначным … С одной стороны, существуют различные психотерапевтические подходы …, направленные на изменение половой ориентации гомосексуалов.
Голод С.И. Семья: прокреация, гедонизм, гомосексуализм Их последователи обычно считают гомосексуальность несовместимой со счастливой жизнью. С другой стороны, в США и ряде европейских стран издаются специальные журналы и проводятся исследования из прямо противоположных постулатов …. Российские опросы общественного мнения об отношении к сексуальным меньшинствам свидетельствуют о том, что все большее количество россиян начинает выражать озабоченность по этому поводу» (Солодников 2007: 202–203).
В этой работе им прослеживается отмена уголовного преследования гомосексуальности в Западной Европе со времен Кодекса Наполеона (1810 г.). Я же так далеко в историю не буду заглядывать и начну свое конспективное повествование с рубежа XIX–XX вв. и обращусь к V Международному съезду криминальных антропологов (Амстердам, 1901 г.). Прежде чем предоставить слово оратору, председательствующий подчеркнул, что бюро съезда просит представителей прессы, во избежание распространения в «большой публике» сведений об этом щекотливом вопросе, не публиковать в газетах о предстоящих выступлениях. С докладом о положении дел с урнингами в Италии выступил доктор Алентрино. По словам медика, урнинги не суть дегенераты и потому не должны причисляться к числу ненормальных людей. Задаваясь вопросом, почему перверсии внушают многим отвращение, докладчик предположил, что одна из причин, скорее всего, заключена в общераспространенном, но ложном убеждении, будто бы деторождение - единственная цель сексуальных отношений между лицами разного пола. По его убеждению, такой взгляд ошибочен и не соответствует практике. Опираясь на данную гипотезу, докладчик обратился к научному сообществу с предложением признать за урнингами право на существование, наряду с прочими «нормальными» людьми. Согласно свидетельству госпожи П. Тарновской, участвовавшей в заседании съезда, это выступление было встречено молчаливым недоумением. В целом же возражения делегатов сводились к тому, что урнинги - это люди с ненормальным, извращенным половым чувством, которое считается одним из признаков вырождения, и у всех уравновешенных людей они могут вызывать лишь чувство гадливости и отвращения.
Итак, можно смело констатировать, что подавляющее большинство специалистов из числа криминальных антропологов Западной Европы к началу XX в. не были готовы воспринимать автономию сексуальности от прокреации (Тарновская 1901).
Социология семьи Относительно большая толерантность к гомосексуализму отмечалась в дореволюционной России. Так, известный правовед В.Д. Набоков открыто обозначил свою позицию следующими словами: «С точки зрения юридической, не только принципиально, но и практически, вопрос о наказуемости мужеложества добровольного, между взрослыми, - должен быть решен отрицательно» (Набоков 1904).
Опираясь на анализ case study из медицинской и судебной практик, российский гинеколог И. Тарновский замечал: «существуют на свете женщины вполне нормальные во всех отношениях, однако наделенные природой необыкновенной склонностью к собственному полу … (лесбиянки). Такое извращение “сексуального чувства” для самих этих женщин вполне естественно и не только вредно, но даже, напротив, удовлетворяет их физиологическую потребность». Мало того, характеризуя «активное лесбиянство как природную аномалию», врач, в отличие от многих своих коллег, не идентифицировал ее как болезнь (Тарновский 1895).
В последующие годы (вплоть до начала 30-х гг. XX столетия) в медицинской и психопатологической литературе был распространен достаточно либеральный взгляд на все разновидности гомосексуализма. Здесь уместно назвать И. Гельмана (Гельман 1925), М. Рубинштейна (Рубинштейн 1928), П. Ганнушкина (Ганнушкин 1964).
И только в третьем десятилетии прошлого века наступила черная полоса «нажима» со стороны правящих элит, воспринимающих несовместимость гомосексуализма с прокреативной деятельностью, чем, в конечном счете, и объясняется введение репрессивной законодательной нормы. Больше того, эту точку зрения воспринимало как руководящую немалое число современных психиатров (напр., Блюмин 1969: 32–34;
Жуков 1969: 47-48; Голанд 1972: 473–487; Деревинская 1965), до которых, по словам того же И.С. Кона, новые современные идеи доходили медленно. Эти мыслители не только не сомневались в том, что гомосексуальность - болезнь, но даже брались осуществлять перестройку их организма (Кон 2003: 2–12).
Наступила пора сформулировать суть моего несогласия с позицией проф. И.С. Кона и некоторых его последователей. Дело в том, что вся работа И.С. Кона выдержана в понятиях сексологии. Проще говоря, она убедительно показывает, что гомосексуализм не является вырождением и потому урнинги (в том числе, и лесбиянки) суть нормальные люди.
Царящая в этом вопросе неопределенность и недосказанность многократно перекрывается в этико-социологической литературе. Я солидарен с мнением, высказанным американским социологом Н. Смелзером:
«В Сан-Франциско, где издавна сложилось терпимое отношение к неГолод С.И. Семья: прокреация, гедонизм, гомосексуализм традиционным образцам поведения, проживает множество гомосексуалов, их примерно 100 тысяч человек … сожительство гомосексуалов нельзя считать нормальной семейной жизнью, независимо от того, живут ли они вместе или раздельно» (Смелзер 1994). В самом деле, долгое время часть социологов полагали, что мир геев и лесбиянок существует исключительно вне сферы семьи. Считалось, что гомосексуалам присущ «промискуитет», а посему их эротическая активность совершенно безлика. Так, по свидетельству российского автора Л.С. Клейна, «в 1981 году половина студентов-гомосексуалов за год сменила не менее пятерых партнеров, тогда как среди гетеросексуалов с такой частотой меняли партнеров только 5 %». Для сравнения в США среднее количество партнеров у гомосексуалов за всю жизнь - пятьдесят, тогда как у гетеросексуалов среднее количество партнеров - четыре (Клейн 2000:
78). Недавнее исследование, проведенное в США, показало, что большинство лесбиянок поддерживает стабильные отношения. В то же время, многие мужчины тоже поддерживают постоянные отношения, даже если некоторые из них имеют сексуальные контакты с другими лицами вне основной связи (Меддок 1995: 100).
Итак, мы столкнулись с противоречивым мнением по поводу сути гомосексуальных отношений. С одной стороны, это явление уподобляется «промискуитету», с другой, все же ассоциируется с «моногамией», т. е. с проживанием с одним партнером на протяжении всей жизни. Так в чем же суть указанных практик? Высказывание своего отношения к тому или иному явлению (институту) требует от исследователя четкого определения предмета анализа.
Что же в социологии понимается под институтом «семьи»? Я придерживаюсь следующей дефиниции:
«семья» - это совокупность индивидов, состоящих, по меньшей мере, в одном из трех видов отношений: кровного родства, порождения и свойства. Доминирование одного из указанных отношений и его характер (от крайней формы половозрастной зависимости до соответствующей автономии) может служить критерием, определяющим исторический этап трансформации моногамии. Исходя из этой логики, мною были сконструированы следующие идеальные (по Веберу) типы семей:
«патриархальный» (или традиционный), детоцентристский (или современный) и супружеский (или постсовременный). Гомосексуальные связи, разумеется, не опираются на «кровное родство» или «порождение», что же касается «свойства», то и наличие последнего сомнительно, хотя при большом желании можно условно «примыслить» «интимность»
в отношениях между партнерами.
Определим и другой институт - «брак». Брак - это исторически разнообразные механизмы социальной регуляции (табу, обычаи, традиСоциология семьи ции, религии, право и нравственность) сексуальных отношений между полами, направленные на поддержание непрерывности жизни. Большинство специалистов признают два положения: социальную регуляцию сексуальных отношений между мужчиной и женщиной и направленность этой деятельности на воспроизводство детей. Отсюда брак - это социальный институт, регулирующий деторождение, а сексуальность - это волеизъявление двух индивидов (приватное), которое сводится в лучшем случае к «компаньонству».
Как мы выяснили в частной беседе по электронной почте с нашим бывшим научным сотрудником, ныне проживающим в ФРГ, в 2004 г.
Апелляционный суд в Южно-Африканской республике взял на себя «божественную» функцию по уточнению определения брака. Вместо сексуального союза между мужчиной и женщиной утвердили новый тезис - «союз между двумя людьми» (так называемый пол «Х»). В странах Европы отмечается более скромное определение. Так, во Франции начиная с 1999 г. гомосексуальные отношения определяются как «брак с меньшими правами»; в Дании (с 1989 г.), в Норвегии (с 1993 г.), в Швеции (с 1995 г.), в Нидерландах (с 1998 г.) эти взаимоотношения обозначаются как «зарегистрированное партнерство».
Что можно сказать относительно интереса к проблеме гомосексуальности в России? В среде молодого поколения, в частности, среди студенчества, интерес к этой проблеме повысился, особенно в последние годы. Это подтверждается в двух опросах, приведенных в книге В.В. Солодникова (Солодников 2007: 201–217), мне это также было заметно при чтении курса «Социология сексуальности» на 5 курсе СПбГУ.
Принимая историческое расширение диапазона понимания семьи, мы ни в коем случае не воспринимаем расширение его до уровня «семейноподобных» союзов. Мне это напоминает противоречивый радиослоган: «Любви все возрасты покорны», для чего советуют принимать возбудительное средство - «импазу». Сексуальность, которая увеличивает свою потенцию благодаря приему возбудительных средств, ни в коем случае нельзя приравнивать к любви, ибо она отождествляется с животным миром, а любовь - это чисто личностная характеристика (т.е. присущая только человеку).
Литература Бауман 3. Свобода. М.: Новое издательство, 2006.
Бестужев-Лада И. Будущее семьи и семья будущего в проблематике социального прогнозирования // Детность семьи: вчера, сегодня и завтра. М.: Финансы и статистика, 1986.
Блюмин И. О некоторых функциональных признаках гомосексуализма // Вопросы сексопатологии. М.: Московский НИИ психиатрии, 1969.
Голод С.И. Семья: прокреация, гедонизм, гомосексуализм Бовуар С. де Второй пол / Пер. с фр., общ. ред. и вступит. статья С.Г. Айвазовой. М: Прогресс, 1997.
Вишневский А.Г. Демографическая революция. М.: Статистика, 1976.
Волков А.Г. Семья - объект демографии. М.: Мысль, 1986.
Ганнушкин П. Сладострастие, жестокость и религия // Избр. труды. М.: Медицина, 1964.
Гельман И. Половая жизнь современной молодежи: опыт социально-биологического исследования. М.; Пг.: Гос. из-во, 1925.
Голанд Я. О ступенчатом построении психотерапии при мужском гомосексуализме // Вопросы сексопатологии. М.: Московский НИИ психиатрии, 1972.
Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспект. Л.: Наука, 1984.
Голод С.И. XX век и тенденции сексуальных отношений в России. СПб.:
Алетейя, 1996.
Голофаст В. О взаимосвязи подходов к изучению семьи // Социологические проблемы семьи и молодежи. Л.: Наука, 1972.
Дарский Л.Е. Формирование семьи. М.: Статистика, 1972.
Демографическая модернизация России: 1900–2000 / Под ред. А.Г. Вишневского. М.: Новое изд-во, 2006.
Деревинская Е.М. Материалы к клинике, патогенезу, терапии женского гомосексуализма. Автореф дис. канд. Караганда, 1965.
Жуков Ю. К вопросу о гомосексуализме у больных алкоголизмом // Вопросы сексопатологии. М.: Московский НИИ психиатрии, 1969.
Захаров С.В. Трансформация брачно-партнерских отношений в России:
«золотой век» традиционного брака близится к закату? // Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе. По материалам одного исследования.
Сб. аналит. статей. Вып. 1 / под ред. Т.М. Малевой, О.В. Синявской. М.: НИСП, 2007.
Иванова Е., Михеева А. Внебрачное материнство в России // Социологические исследования. 1999. № 6. С. 72–76.
Клейн Л. Другая любовь. Природа человека и гомосексуальность. СПб.:
Фолио-пресс, 2000.
Кон И.С. О нормализации гомосексуальности // Социология и сексопатология. 2003. № 2.
Кон И.С. Три в одном: сексуальная, гендерная и семейная революции // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 1. С. 51–65.
Меддок Дж. У. Семейная жизнь и сексуальность // Семья на пороге третьего тысячелетия. М.: ИС РАН и Центр общечеловеческих ценностей, 1995.
Набоков В.Д. Плотские преступления по проекту уголовного уложения // Сборник статей по уголовному праву. СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1904.
Население России 2003–2004. М., 2006.
Плутарх. Сочинения / Пер. с древнегреч., состав. С.С. Аверинцев; вступит.
статья А. Лосева. М.: Худ. лит-ра, 1983.
Пушкарева Н.Л. Семья, женщина, сексуальная этика в православии и католицизме // Этнографическое обозрение. 1995. № 3.
Рубинштейн М. Юность. М., 1928.
Семья в Российской Федерации. М.: Госкомстат России, 1994.
Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994.
Социология семьи
Солодников В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи. СПб.:
Директ, 2007.
Тарновская П. V-й международный съезд криминальных антропологов (Амстердам, 9–14 сентября 1901) // Обзор психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1901. № 11–12.
Тарновский Ип. Извращение полового чувства у женщин. СПб.: Тип. Худякова, 1895.
Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М.: Мысль, 1979.
Хилл Р. Семейные решения и социальная политика; социологический аспект // Изменение положения женщины и семья. М.: Наука, 1977.
Шишков С.С. Исторические судьбы женщин, детоубийство и проституция.
Шлиндман Ш., Звидриньш П. Изучение рождаемости. М.: Статистика, 1973.
Яковлева Г.В. Охрана прав незамужней матери. Минск: Изд-во БГУ, 1979.
Adams B. The Family: A Sociological Interpretation. Orlando: Harcourt Brace, 1986.
Giddens A. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Stanford: Stanford Univ. Press, 1992.
Schmidt A. Lassen sich aus dem kulturellen Wandel von Sexualitдt und Familie...
Условность художественная — способ воспроизведения жизни в произведении искусства, который явственно обнаруживает частичное расхождение между изображенным в художественном произведении и изображаемым. Условность художественная противопоставлена таким понятиям, как «правдоподобие», «жизнеподобие», отчасти «фактографичность» (выражения Достоевского — «даггеротипирование», «фотографическая верность», «механическая точность» и др.). Ощущение условности художественной возникает при расхождении писателя с эстетическими нормами его времени, при выборе необычного ракурса рассмотрения художественного объекта как результат противоречия между эмпирическими представлениями читателя об изображаемом предмете и использованными писателем художественными приемами. Условным может стать практически любой прием, если он выходит за рамки привычного для читателя. В тех случаях, когда условность художественная соответствует традициям, она не замечается.
Актуализация проблемы условного-правдоподобного характерна для переходных периодов, когда соперничает несколько художественных систем. Использование различных форм условности художественной придает описываемым событиям надбытовой характер, открывает социокультурную перспективу, обнажает сущность явления, показывает его с необычной стороны, служит парадоксальному обнажению смысла. Условностью художественной обладает любое произведение искусства, поэтому речь может идти только об определенной мере условности, характерной для той или иной эпохи и ощущаемой современниками. Форма условности художественной, в которой художественная реальность явно расходится с эмпирической, называется фантастикой.
Для обозначения условности художественной Достоевский употребляет выражение «поэтическая (или «художественная») правда», «доля преувеличения» в искусстве, «фантастика», «реализм, доходящий до фантастического», не давая им однозначного определения. «Фантастическим» может быть назван и реальный факт, не замеченный в силу своей исключительности современниками, и свойство мироощущения персонажей, и форма условности художественной, характерная для реалистичного произведения (см. ). Достоевский считает, что следует различать «естественную правду» (правду действительности) и , воспроизведенную с помощью форм условности художественной; подлинному искусству нужны не только «механическая точность» и «фотографическая верность», но и «глаза души», «око духовное» (19; 153—154); фантастичность «внешним образом» не мешает художнику оставаться верным действительности (т.е. использование условности художественной должно помочь писателю отсечь второстепенное и выделить главное).
Для творчества Достоевского характерно стремление изменить принятые в его время нормы художественной условности, стирание границ между условными и жизнеподобными формами. Для более ранних (до 1865 г.) произведений Достоевскому свойственно открытое отступление от норм условности художественной («Двойник», «Крокодил»); для более позднего творчества (в частности для романов) — балансирование на грани «нормы» (объяснение фантастических событий сном героя; фантастические рассказы персонажей).
Среди условных форм, используемых Достоевским, — притчи , литературные реминисценции и цитаты, традиционные образы и сюжеты, гротеск, символы и аллегории, формы передачи сознания героев («стенограмма чувств» в «Кроткой»). Использование условности художественной в произведениях Достоевского сочетается с обращением к максимально жизнеподобным, создающим иллюзию достоверности деталям (топографические реалии Петербурга, документы, газетные материалы, живая ненормативная разговорная речь). Обращение Достоевского к условности художественной нередко вызывало критику современников, в т.ч. Белинского. В современном литературоведении вопрос об условности художественной в творчестве Достоевского чаще всего ставился в связи с особенностями реализма писателя. Споры были связаны с тем, является ли «фантастика» «методом» (Д. Соркина) или художественным приемом (В. Захаров).
Кондаков Б.В.
Художественный вымысел на ранних этапах становления искусства, как правило, не осознавался: архаическое сознание не разграничивало правды исторической и художественной. Но уже в народных сказках, которые никогда не выдают себя за зеркало действительности, осознанный вымысел достаточно ярко выражен. Суждение о художественном вымысле мы находим в «Поэтике» Аристотеля (гл. 9–историк рассказывает о случившемся, поэт – о возможном, о том, что могло бы произойти), а также в работах философов эпохи эллинизма.
На протяжении ряда столетий вымысел выступал в литературных произведениях как всеобщее достояние, как наследуемый писателями у предшественников. Чаще всего это были традиционные персонажи и сюжеты, которые каждый раз как-то трансформировались (так дело (92) обстояло, в частности, в драматургии Возрождения и классицизма, широко использовавшей античные и средневековые сюжеты).
Гораздо более, чем это бывало раньше, вымысел проявил себя как индивидуальное достояние автора в эпоху романтизма, когда воображение и фантазия были осознаны в качестве важнейшей грани человеческого бытия. «Фантазия <...> – писал Жан-Поль, – есть нечто высшее, она есть мировая душа и стихийный дух основных сил (каковы остроумие, проницательность и пр.–В.Х.) <...> Фантазия–это иероглифический алфавит природы» 2 . Культ воображения, характерный для начала XIX в., знаменовал раскрепощение личности, и в этом смысле составил позитивно значимый факт культуры, но вместе с тем он имел и негативные последствия (художественные свидетельства тому – облик гоголевского Манилова, судьба героя «Белых ночей» Достоевского).
В послеромантические эпохи художественный вымысел несколько сузил свою сферу. Полету воображения писатели XIX в. часто предпочитали прямое наблюдение над жизнью: персонажи и сюжеты были приближены к их прототипам . По словам Н.С. Лескова, настоящий писатель – это «записчик», а не выдумщик: «Где литератор перестает записчиком и делается выдумщиком, там исчезает между ним и обществом всякая связь» 3 . Напомним и известное суждение Достоевского о том, что пристальный глаз способен в самом обыденном факте обнаружить «глубину, какой нет у Шекспира» 4 . Русская классическая литература была более литературой домысла», чем вымысла как такового 1 . В начале XX в. вымысел порой расценивался как нечто устаревшее, отвергался во имя воссоздания реального факта, документально подтверждаемого. Эта крайность оспаривалась 2 . Литература нашего столетия – как и ранее – широко опирается и на вымысел, и на невымышленные события и лица. При этом отказ от вымысла во имя следования правде факта, в ряде случаев оправданный и плодотворный 3 , вряд ли может стать магистралью художественного творче(93)ства: без опоры на вымышленные образы искусство и, в частности литература непредставимы.
Посредством вымысла автор обобщает факты реальности, воплощает свой взгляд на мир, демонстрирует свою творческую энергию. З. Фрейд утверждал, что художественный вымысел связан с неудовлетворенными влечениями и подавленными желаниями создателя произведения и их непроизвольно выражает 4 .
Понятие художественного вымысла проясняет границы (порой весьма расплывчатые) между произведениями, притязающими на то, чтобы быть искусством, и документально-информационными. Если документальные тексты (словесные и визуальные) с «порога» исключают возможность вымысла, то произведения с установкой на их восприятие в качестве художественных охотно его допускают (даже в тех случаях, когда авторы ограничиваются воссозданием действительных фактов, событий, лиц). Сообщения в текстах художественных находятся как бы по ту сторону истины и лжи. При этом феномен художественности может возникать и при восприятии текста, созданного с установкой на документальность: «... для этого достаточно сказать, что нас не интересует истинность данной истории, что мы читаем ее, «как если бы она была плодом <...> сочинительства» 5 .
Формы «первичной» реальности (что опять-таки отсутствует в «чистой» документалистике) воспроизводятся писателем (и вообще художником) избирательно и так или иначе преображаются, в результате чего возникает явление, которое Д.С. Лихачев назвал внутренним миром произведения: «Каждое художественное произведение отражает мир действительности в своих творческих ракурсах <...>. Мир художественного произведения воспроизводит действительность в некоем «сокращенном», условном варианте <...>. Литература берет только некоторые явления реальности и затем их условно сокращает или расширяет» 6 .
При этом имеют место две тенденции художественной образности, которые обозначаются терминами условность (акцентирование автором нетождественности, а то и противоположности между изображаемым и формами реальности) и жизнеподобие (нивелирование подобных различий, создание иллюзии тождества искусства и жизни).Разграничение условности и жизнеподобия присутствует уже в высказываниях Гете (статья «О правде и правдоподобии в искусстве») и Пушкина (заметки о драматургии и ее неправдоподобии). Но особенно напряженно обсуждались соотношения между ними на рубеже XIX – (94) XX столетий. Тщательно отвергал все неправдоподобное и преувеличенное Л.Н. Толстой в статье «О Шекспире и его драме». Для К.С. Станиславского выражение «условность» было едва ли не синонимом слов «фальшь» и «ложный пафос». Подобные представления связаны с ориентацией на опыт русской реалистической литературы XIX в., образность которой была более жизнеподобной, нежели условной. С другой стороны, многие деятели искусства начала XX в. (например, В.Э. Мейерхольд) отдавали предпочтение формам условным, порой абсолютизируя их значимость и отвергая жизнеподобие как нечто рутинное. Так, в статье P.O. Якобсона «О художественном реализме» (1921) поднимаются на щит условные, деформирующие, затрудняющие читателя приемы («чтобы труднее было отгадать») и отрицается правдоподобие, отождествляемое с реализмом в качестве начала косного и эпигонского 7 . Впоследствии, в 1930 – 1950-е годы, напротив, были канонизированы жизнеподобные формы. Они считались единственно приемлемыми для литературы социалистического реализма, а условность находилась под подозрением в родстве с одиозным формализмом (отвергаемым в качестве буржуазной эстетики). В l960-e годы были вновь признаны права художественной условности. Ныне упрочился взгляд, согласно которому жизнеподобие и услойность – это равноправные и плодотворно взаимодействующие тенденции художественной образности: «как бы два крыла, на которые опирается творческая фантазия в неутомимой жажде доискаться до правды жизни» 1 .
На ранних исторических этапах в искусстве преобладали формы изображения, которые ныне воспринимаются как условные. Это, во-первых, порожденная публичным и исполненным торжественности ритуалом идеализирующая гипербола традиционных высоких жанров (эпопея, трагедия), герои которых проявляли себя в патетических, театрально-эффектных словах, позах, жестах и обладали исключительными чертами наружности, воплощавшими их силу и мощь, красоту и обаяние. (Вспомним былинных богатырей или гоголевского Тараса Бульбу). И, во-вторых, это гротеск, который сформировался и упрочился в составе карнавальных празднеств, выступив в качестве пародийного, смехового «двойника» торжественно-патетической, а позже обрел программное значение для романтиков 2 . Гротеском принято называть художественную трансформацию жизненных форм, приводящую к некой уродливой несообразности, к соединению несочетаемого. Гротеск в искусстве сродни парадоксу в (95) логике. М.М. Бахтин, исследовавший традиционную гротескную образность, считал ее воплощением празднично-веселой вольной мысли: «Гротеск освобождает от всех форм нечеловеческой необходимости которые пронизывают господствующие представления о мире <...> развенчивает эту необходимость как относительную и ограниченную; гротескная форма помогает освобождению <...> от ходячих истин, позволяет взглянуть на мир по-новому, почувствовать <...> возможность совершенно иного миропорядка» 3 . В искусстве последних двух столетий гротеск, однако, часто утрачивает свою жизнерадостность и выражает тотальное неприятие мира как хаотического, устрашающего, враждебного (Гойя и Гофман, Кафка и театр абсурда, в значительной мере Гоголь и Салтыков-Щедрин).
В искусстве изначально присутствуют и жизнеподобные начала, давшие о себе знать в Библии, классических эпопеях древности, диалогах Платона. В искусстве Нового времени жизнеподобие едва ли не доминирует (наиболее яркое свидетельство тому – реалистическая повествовательная проза XIX в., в особенности –Л.Н. Толстого и А.П. Чехова). Оно насущно для авторов, показывающих человека в его многоплановости, а главное – стремящихся приблизить изображаемое к читателю, свести к минимуму дистанцию между персонажами и воспринимающим сознанием. Вместе с тем в искусстве XIX –XX вв. активизировались (и при этом обновились) условные формы. Ныне это не только традиционные гипербола и гротеск, но и всякого рода фантастические допущения («Холстомер» Л.Н. Толстого, «Паломничество в страну Востока» Г. Гессе), демонстративная схематизация изображаемого (пьесы Б. Брехта), обнажение приема («Евгений Онегин» А.С. Пушкина), эффекты монтажной композиции (немотивированные перемены места и времени действия, резкие хронологические «разрывы» и т. п.).
Билет 4.Условность и жизнеподобие. Условность и реализм. Условность и фантастика в художественном произведении.
Художественный вымысел на ранних этапах становления искусства, как правило, не осознавался: архаическое сознание не разграничивало правды исторической и художественной. Но уже в народных сказках, которые никогда не выдают себя за зеркало действительности, осознанный вымысел достаточно ярко выражен. На протяжении ряда столетий вымысел выступал в литературных произведениях как всеобщее достояние, как наследуемый писателями у предшественников. Чаще всего это были традиционные персонажи и сюжеты, которые каждый раз как-то трансформировались. Гораздо более, чем это бывало раньше, вымысел проявил себя как индивидуальное достояние автора в эпоху романтизма, когда воображение и фантазия были осознаны в качестве важнейшей грани человеческого бытия.
В послеромантические эпохи художественный вымысел несколько сузил свою сферу. Полету воображения писатели XIX в. часто предпочитали прямое наблюдение над жизнью: персонажи и сюжеты были приближены к их прототипам. Посредством вымысла автор обобщает факты реальности, воплощает свой взгляд на мир, демонстрирует свою творческую энергию.
Формы «первичной» реальности (что опять-таки отсутствует в «чистой» документалистике) воспроизводятся писателем (и вообще художником) избирательно и так или иначе преображаются, в результате чего возникает явление, которое Д.С. Лихачев назвал внутренним миром произведения: «Каждое художественное произведение отражает мир действительности в своих творческих ракурсах <...>. Мир художественного произведения воспроизводит действительность в некоем «сокращенном», условном варианте <...>.
При этом имеют место две тенденции художественной образности, которые обозначаются терминами условность (акцентирование автором нетождественности, а то и противоположности между изображаемым и формами реальности) и жизнеподобие (нивелирование подобных различий, создание иллюзии тождества искусства и жизни). Разграничение условности и жизнеподобия присутствует уже в высказываниях Гете (статья «О правде правдоподобии в искусстве») и Пушкина (заметки о драматургии и ее неправдоподобии).
Гротеском принято называть художественную трансформацию жизненных форм, приводящую к некой уродливой несообразности, к соединению несочетаемого.
Реализм и условность в литературе.
Реализм в литературе. В художественной литературе реализм развивается постепенно, в течение многих столетий. Но сам термин “реализм” возник лишь в середине 19 века. Реализм в литературе и искусстве - правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. В ходе исторического развития искусства Р. принимает конкретные формы определённых творческих методов.
Условность художественная - это нетождественность художественного образа объекту воспроизведения. Различают первичную и вторичную условность в зависимости от меры правдоподобия образов и осознанности художественного вымысла в разные исторические эпохи.
Первичная условность тесно сопряжена с природой самого искусства, неотделимого от условности, и потому характеризует любое художественное произведение, т.к. оно не тождественно реальности. Такая условность воспринимается как нечто общепринятое, само собой разумеющееся.
Вторичная условность, или собственно условность - это демонстративное и сознательное нарушение художественного правдоподобия в стиле произведения.
Нарушение пропорций, комбинирование и акцентирование каких-либо компонентов художественного мира, выдающие откровенность авторского вымысла, порождают особые стилевые приемы, свидетельствующие об осознанности игры автора с условностью, обращении к ней как к целенаправленному, эстетически значимому средству. Типы условной образности - фантастика, гротеск (гротеском принято называть художественную трансформацию жизненных форм, приводящую к некой уродливой несообразности, к соединению несочетаемого); смежные явления - гипербола, символ, аллегория - могут быть и фантастическими (Горе-Злочастие в древнерусской литературе, Демон у Лермонтова), и правдоподобными (символ чайки, вишневого сада у Чехова).
Условность и фантастика в художественном произведении
Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. - М., 1998г.
Художественный мир условно подобен первичной реальности. Однако мера и степень условности в разных произведениях различна. В зависимости от степени условности различаются такие свойства изображенного мира, как жизнеподобие и фантастика, в которых отражается разная мера отличия изображенного мира от мира реального.
Жизнеподобие предполагает «изображение жизни в формах самой жизни», по словам Белинского, то есть без нарушения известных нам физических, психологических, причинно-следственных и иных закономерностей.
Фантастика предполагает нарушение этих закономерностей, подчеркнутое неправдоподобие изображенного мира. Так, например, повесть Гоголя «Невский проспект» жизнеподобна по своей образности, а его же «Вий» – фантастичен.
Чаще всего мы встречаемся в произведении с отдельными фантастическими образами – например, образы Гаргантюа и Пантагрюэля в одноименном романе Рабле, но фантастика может быть и сюжетной, как, например, в повести Гоголя «Нос», в которой цепь событий от начала до конца совершенно невозможна в реальном мире.