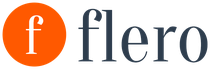Забытые страницы Великой войны
Оксюморон Генерала Рузского
Генерал-адъютант Н. В. Рузский. Герой Львова". Почтовая открытка времён Первой мировой войны
В истории русского военного ордена св. Георгия такого не случалось ни до, ни после.
В течение двух месяцев тремя степенями этой самой значимой военной награды Империи был награжден один человек – генерал Николай Владимирович Рузский. Казалось бы, не может быть сомнений в том, что был отмечен тот, кто на самом деле заслуживал такой чести. На войне бывают награждения случайные, ошибочные, массовые, но трижды ошибиться в течение нескольких недель Георгиевская Дума и государь не могли. Выходит, было за что отмечать?
В том то и дело, что вся судьба генерала Рузского – это череда сплошных парадоксов. И три ордена св. Георгия – не исключение из общего ряда. Не судьба, а оксюморон. То есть, сплошное противоречие.
О том, за что и при каких обстоятельствах Рузский получил последовательно и быстро три георгиевских креста – чуть позже. А пока – о судьбе. Николай Владимирович родился в марте 1854 года (следовательно к началу Первой мировой разменял седьмой десяток) в Калужской губернии в дворянской семье. Есть вполне убедительная версия о происхождении предков генерала, кровью связанных с родом Лермонтовых. Один из представителей славного рода, к которому относился и великий русский поэт, служил городничим в подмосковном городке Руза. Так вышло, что родился у него бастард – внебрачный сын. И дали ему фамилию по имени города, которым управлял отец. Потому и – Рузские, фамилия, в старых дворянских книгах не встречавшаяся.
Военная стезя Николаю была выбрана сразу. После окончания военной гимназии в Петербурге, Рузский с разницей в девять лет получил среднее и высшее военное образование. В 1872 вышел в офицеры из 2-го Константиновского военного училища, в 1881-м закончил академию Генерального штаба. В промежутке успел повоевать на последней русско-турецкой войне, в составе Лейб-гвардии Гренадерского полка, поручиком. Воевал достойно, в бою под Горным Дубняком, где отличилась Императорская Гвардия, был ранен. За этот бой был удостоен ордена св. Анны 3-й степени и произведен в штабс-капитаны.

После завершения обучения в Николаевской академии (вышел по 1-му разряду) Рузский служил на штабных должностях, командовал 151 Пятигорским пехотным полком. После получил должность генерал-квартирмейстера Киевского военного округа, которым командовал популярный в войсках генерал Михаил Драгомиров. Люди, служившие в тот период в штабе округа, в оставленных мемуарах выражали удивление выбору Драгомирова, ибо не видели в генерале Рузском ни особых воинских талантов, ни достойных человеческих качеств. Считали его сухим, высокомерным, тщеславным карьеристом.
В 1903 году Рузский получает чин генерал-лейтенанта и принимает должность начальника штаба Виленского военного округа. А в 1904-м отбывает на русско-японскую войну, где принимает участие в качестве начальника штаба 2-й Маньчжурской армии в основных боях с японцами: под Сандепу и Мукденом. Несмотря на поражения русской армии, Рузский был отмечен орденами св. Анны I степени и св. Владимира II степени с мечами.
Полным генералом (генералом от инфантерии) Рузский стал еще до начала ПМВ, успев покомандовать 21-м армейским корпусом и поработать в Военном совете. Именно он является автором нового устава полевой службы, принятом к исполнению в 1912 году, который довольно высоко оценивался военными специалистами. И в тоже время содержал концептуально неверную установку на скоротечность предстоящей войны.
С началом Первой мировой войны генерал Рузский принимает 3-ю армию Юго-Западного фронта. С ней и берет 2 сентября 1914 года столицу австрийской Галиции город Львов. Сразу же после этого успеха Николай Владимирович получает назначение командующим Северо-Западным фронтом. За Львов и в целом Галицийскую битву Рузский получает ордена св. Георгия IV и III степени, а уже в конце октября главнокомандующий Русской армией великий князь Николай Николаевич-младший пишет представление о награждении генерала II степенью – за Варшавско-Ивангородскую операцию, в результате которой удалось остоять от германцев столицу Русской Польши.

А теперь о том, почему тройное награждение Рузского вызвало и до сих пор вызывает споры.
Взятие Львова не являлось стратегической задачей, план наступления Юго-Западного фронта предусматривал совершенно иные действия. И в случае его реализации австрийцы бы не Львов потеряли, а собственную армию. Но Рузский систематически отказывался выполнять приказы, поступавшие из штаба фронта. Вместо флангового обхода увязших в боях с другими армиями фронта австрийцев, он предпринял лобовую атаку на Львов, которой противник, строго говоря, оборонять и не собирался. Столица Галиции была взята бескровно. В Петербурге на поведение командарма Рузского закрыли глаза, потому как в эти дни от фронта требовалось нечто, способное снивелировать неудачу 2-й армии генерала Самсонова в Восточной Пруссии. И военный смысл был подменен политическими соображениями. Рузский пожал плоды.
Впрочем, до сих пор непонятно, почему генерала наградили двумя степенями ордена св. Георгия за одно и то же дело в один день – 4 сентября 1914 года. А чуть раньше – придворным чином генерал-адъютанта. Да, император Николай II крайне восторженно оценил взятие Львова – «Днем получил радостнейшую весть о взятии Львова и Галича! Слава Богу!.. Невероятно счастлив этой победе и радуюсь торжеству нашей дорогой армии!”. Но даже подобное праздничное настроение государя ни в коей мере не объясняет проявленную щедрость.
Дальше – больше. Практически все, что делал Рузский во время обороны Варшавского укрепрайона в октябре 1914 года, должно было привести к поражению. Он умудрялся отступать перед более слабыми силами противника, не ввязываясь в бой. Он замучил штабных офицеров нерешительностью и словоблудием. Ошибки, допущенные Рузским во время Варшавско-Ивангородской операции, сказались весьма быстро. Уже в ноябре грянула Лодзинская операция, в результате которой русские армии были вынуждены отступить. Но Николай Владимирович умудрился представить дело так, что виноватыми в сложной ситуации оказались командующие армиями, находившиеся как в его подчинении, так и в подчинении главкома Юго-Западного фронта. В итоге несколько генералов, в том числе, и герой обороны Варшавы Шейдеман, были сняты с должностей.

Звезда и знаки к ордену Св. Георгия. Знаки 1-й и 2-й ст. отличались от знаков 3-й и 4-й ст. только размером, были крупнее. Изображение Св. Георгия на знаке (кресте) не стандартизировалось и зависело от художника
Уже в марте, предчувствуя неладное, «герой Львова» убыл с фронта в продолжительный отпуск по причине болезни. Болезнь на самом деле имела место: Рузский страдал печенью, отчего частенько прибегал к помощи такого обезболивающего, как морфий.
Тем не менее, отношение к Рузскому со стороны части генералитета и офицерства, а также в тылу оставалось уважительным, если не сказать больше – восторженным. Автора победы в Галицийской битве продолжали, образно говоря, носить на руках. И на этих самых руках генерал был возвращен в действующую армию в конце лета 1915 года в качестве командующего новообразованным Северным фронтом. Через полгода, опять-таки по болезни, Рузский отправился на лечение на Северный Кавказ, в столь любимые им Пятигорск и Кисловодск. В конце лета 1916 года вновь прибыл на Северный фронт, который за месяцы его командования, равно как и в период отсутствия, не делал ровным счетом ничего.
В конце февраля 1917 года именно генерал Рузский. Воспользовавшись ситуацией, фактически задержал в Пскове императора Николая II и вместе с другими заговорщиками принудил его подписать фальшивое отречение от престола. Если кому и должны были ставить памятник авторы буржуазной революции и особенно большевики, так это Николаю Владимировичу. Но красные «отблагодарили» генерала иначе: в октябре 1918 года его вместе с с сотней других заложников расстреляли в Пятигорске. По другим данным – зарубили шашками.
На самом деле – противоречивая судьба выпала генералу Рузскому. С первых дней ПМВ он привечал в качестве генерал-квартирмейстера своего штаба, а потом и начальника штаба генерала Михаила Бонч-Бруевича, родного брата Владимира, известного сподвижника Ленина. Довольно часто именно советы и разработки Бонч-Бруевича ложились в основу странных решений, принимавшихся Рузским. Но в 1918-м – не помогло.
Оценки, данные Рузскому многими, кто знал его по службе в разные годы, полярны. В одних – умный стратег, эрудит, генерал, умевший разговаривать с войсками. В других – болезненный и слабовольный, нерешительный перестраховщик, умелый интриган и карьерист. Причем, в мемуарах и хвалили, и ругали генерала как будущие белые, так и будущие красные. А значит, дело не в политических предпочтениях оставивших воспоминания. Видать, противоречив был Николай Владимирович от природы. Потому и судьба такая выдалась.
Михаил БЫКОВ,
Специально для «Почты полевой».
Русский генерал Рузский.
Никалай Владимирович Рузский, участник русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн.
Личность очень противоречивая. Одни его считали интриганом и очень средним стратегом, другие же восторгались его полководческими талантами, и писали об исключительной порядочностьи Николая Владимировича.
В первую мировую войну офицерский орден св. Георгия 1-й степени не выдавался. Вторую степень награды заслужили четверо командующих фронтами: В. Рузский, Н. Юденич, Н. Иванов и Великий князь Николай Николаевич Младший (до 1915 г. бывший Верховным Главнокомандующим русской армии). Рузский принимал участие в разработке уставов и наставлений, автор Полевого Устава 1912 года. Этот Полевой Устав российской армии применялся в РККА до 1930-х годов. Кроме того, Николай Владимирович сыграл роковую роль в отречении Государя от престола…

Бывший военный министр А. Ф. Редигер считал, что “если начальник штаба государя Алексеев и главнокомандующий Рузский не поддержали государя, а побуждали его подчиниться требованиям, исходившим из Петрограда, то это произошло потому, что они видели во главе движения избранников народа, людей, несомненно, почтенных, и видели в этом доказательство тому, что и вся революция отвечает воле народа”44. Генералы и подумать не могли, что еще до того, как они поддержали парламент, они уже превратились в пешки на российском политическом поле. Их действия определялись поступавшей из Петрограда информацией, той, которой хотелось верить, и которая поэтому расценивалась как достоверная.

Будучи в Екатеринбурге в заключении, Николай II сказал: “Бог не покидает меня. Он дает мне силы простить всем врагам, но я не могу победить себя в одном: я не могу простить генерала Рузского”
Временное правительство не забыло тех услуг, что были оказаны главкосевом в момент падения монархии, и ему еще доверяли. Все изменилось с отставкой наиболее консервативно настроенных членов правительства - министра иностранных дел П. Н. Милюкова и Гучкова. В апреле Алексеев отправил Рузского в отставку...

Ю.Н.Данилов, М.Д.Бонч-Бруевич, Н.В.Рузский, Р.Д.Радко-Дмитриев, А.М.Драгомиров. Стоят справа налево: В.Г.Болдырев, И.З.Одишелидзе
После отставки Рузский некоторое время жил в Петрограде в качестве пенсионера “с мундиром”. В столице он наносил многочисленные визиты, встречался с коллегами по ремеслу, пытался сделать что-нибудь посильное для остановки крушения армии. З. Н. Гиппиус 19 июля 1917 г. в своем дневнике записывала, что несколько раз в эти дни видела Рузского, который бывал у нее в гостях: “Маленький, худенький старичок, постукивающий мягкой палкой с резиновым наконечником. Слабенький, вечно у него воспаление в легких. Недавно оправился от последнего. Болтун невероятный, и никак уйти не может, в дверях стоит, а не уходит… Рузский с офицерами держал себя… отечески-генеральски. Щеголял этой “отечественностью”, ведь революция! И все же оставался генералом”

Вскоре после Октябрьского переворота Рузский вместе с Радко-Дмитриевым отправился лечиться в Кисловодск. На курорте генералов застала разворачивавшаяся гражданская война. Распад Кавказского фронта и начало вооруженной борьбы отрезали Рузского от Центральной России. Когда генералы переехали в Пятигорск, где распоряжалось командование Кавказской Красной армии, их наряду с другими представителями “бывших” взяли в заложники.
В одном белье, со связан-ными за спиною руками, повели часть заложников на городское кладбище.
Один из конвойных, бывший как бы за старше-го, приказал отсчитать из всей партии приведен-ных людей 15 человек. Обрезов и Васильев пошли вперед, показывая дорогу к упомянутой могиле, а выделенные из 25-ти приведенных заложников 15 человек, окруженные красноармейцами, воору-женными с головы до ног, пошли за ними. Осталь-ные заложники остались у ворот кладбища. Шли всю дорогу медленно, шаг за шагом, прямо по до-роге в глубь кладбища.
Дорогой генерал Рузский заговорил тихим про-тяжным голосом. С грустной иронией заметил он, что свободных граждан по неизвестной причине ведут на смертную казнь, что всю жизнь он чест-но служил, дослужился до генерала, а теперь дол-жен терпеть от своих же русских. Один из кон-войных спросил: «Кто говорит? Генерал?» Говоривший ответил: «Да, генерал». За этим отве-том последовал удар прикладом ружья и приказ замолчать. Пошли дальше все тем же тихим ша-гом. Все молчали.

Началась рубка. Рубили над ямой, шагах в пяти от нее. Первым убили старика небольшого роста. Он, вероятно, был слеповат, и спрашивал, куда ему идти к яме. Палачи приказывали своим жертвам становиться на колени и вытягивать шеи. Вслед за этим наносились удары шашками. Пала-чи были неумелые и не могли убивать с одного взмаха. Каждого заложника ударяли раз по пять, а то и больше. Помимо неопытности палачей, нанесению метких ударов в шею, очевидно, препятствовала темнота. После того как было покончено с первы-ми четырьмя жертвами, старший команды прика-зал: «Беритесь теперь за генерала Рузского. До-вольно ему сидеть, он уже разделся».
Со слов присут-ствовавшего при казни Кравеца, бывшего предсе-дателя Чрезвычайной следственной комиссии гор. Кисловодска, генерал Рузский перед самой смертью сказал, обращаясь к своим палачам: «Я — генерал Рузский (произнеся свою фамилию, как слово «русский») и помните, что за мою смерть вам отомстят русские». Произнеся эту краткую речь, генерал Рузский склонил свою го-лову и сказал: «Рубите».
Разговор имел место в кооперативе «Чашка чаю». Подошедший спросил Атарбекова, правда ли, что красноармейцы отказались расстрелять Рузского и Радко-Дмитриева. Атарбеков ответил: «Правда, но Руз-ского я зарубил сам, после того, как он на мой во-прос, признает ли он теперь великую российскую революцию, ответил: «Я вижу лишь один великий разбой».
«Я ударил, — продолжал Атарбеков, — Рузского вот этим самым кинжалом (при этом Атарбеков показал бывший на нем черкесский кинжал) по руке, а вторым ударом по шее».

Николай Владимирович Рузский родился 6 марта 1854 года в дворянской семье, жившей в Калужской губернии. Не совсем обычная фамилия генерала объясняется тем, что по преданию, род Рузских берет свое начало от дворянина А.М. Лермонтова, жившего в XVIII веке в подмосковном городе Руза. Отец будущего генерала ‒ Владимир Виттович Рузский служил чиновником и скончался, когда Николай пребывал еще в детском возрасте, в связи с чем мальчик был взят под покровительство Московского опекунского совета.
В 1865 году Николай поступил в 1-ю петербургскую военную гимназию, которую окончил по первому разряду (1870). Затем последовало обучение в Константиновском военном училище, которое он также закончил по первому разряду (1872). Молодой человек был зачислен в лейб-гвардии Гренадерский полк. Ротным командиром он принял участие в Русско-турецкой войне 1877‒1878 гг., отличился при взятии крепости Горный Дубняк, был ранен в ногу. За отвагу и мужество, проявленные в боях с турками, Н.В. Рузский был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

Желая продолжить образование, отличившийся молодой офицер в 1878 г. был прикомандирован к запасному батальону для подготовки к поступлению в Николаевскую Академию Генерального Штаба, обучение в которой открывало большие возможности для карьерного роста. Окончив академию по первому разряду (1881), Рузский был назначен помощником старшего адъютанта штаба Казанского военного округа. Карьера талантливого офицера складывалась более чем успешно. В 1882 году он был уже старшим адъютантом штаба Киевского военного округа; с 1887-го служил начальником штаба 11-й кавалерийской дивизии, а с 1891 года был начальником штаба 32-й пехотной дивизии. В 1896 г. Рузский некоторое время командовал 151-м пехотным Пятигорским полком, но в конце того же года получил чин генерал-майора и должность окружного генерал-квартирмейстера штаба Киевского военного округа. А в 1903-м «за отличие» Рузский был досрочно произведен в чин генерал-лейтенанта.
Однако, пользовавшийся расположением командующего войсками округа генерала М.И. Драгомирова, ценившего своего подчиненного за ум и характер, Рузский далеко не у всех вызывал такую же высокую оценку. Генерал Генерального штаба Адариди так отзывался о Рузском: «Трудно понять, как такой знаток людей, каким был Драгомиров, мог его выдвинуть, так как ни особым талантом, ни большими знаниями он не обладал. Сухой, хитрый, себе на уме, мало доброжелательный, с очень большим самомнением, он возражений не терпел, хотя то, что он высказывал, часто никак нельзя было назвать непреложным. К младшим он относился довольно высокомерно и к ним проявлял большую требовательность, сам же уклонялся от исполнения поручений, почему-либо бывших ему не по душе. В этих случаях он всегда ссылался на состояние своего здоровья» .
Русско-японская война застала генерала Рузского в должности начальника штаба Виленского военного округа. Имевший хорошую репутацию и авторитет, генерал был направлен на театр военных действий начальником штаба 2-й Маньчжурской армии. Он участвовал в сражениях при Сандепу и Мукдене и, по мнению Генерального штаба, проявил себя как один из лучших генералов и ценных работников. При отступлении Русской армии от Мукдена, находясь в арьергарде армии, Рузский, упав с лошади, получил травму, но, несмотря на увечье, остался в действующей армии.

После окончания войны Н.В. Рузский, как ценный штабной работник, был привлечен к разработке «Положения о полевом управлении войсками в военное время». В 1907 г. его ввели в состав Верховного военно-уголовного суда по расследованию дела о сдаче Порт-Артура. А в 1909-м Рузский был назначен командиром 21-го армейского корпуса, но вскоре был отстранен от командования ввиду слабого здоровья. Для генерала снова началась штабная служба: он был членом Военного совета при военном министре, занимался разработкой уставов и наставлений, был одним из авторов Полевого устава 1912 г. В 1909 г. Рузский был уже «полным генералом», получив чин генерала от инфантерии. За два года до начала Первой мировой войны он был назначен на пост помощника командующего войсками Киевского военного округа генерала Н.И. Иванова и должен был, в случае военного конфликта с Германией и Австро-Венгрией сразу же взять на себя командование армией, сформированной на базе округа.

Когда разразилась Мировая война, Рузский возглавил 3-ю армию. Пользовавшийся личным доверием и расположением Императора, в сентябре 1914 года Рузский был произведен в генерал-адъютанты, а за успешные бои с австрийцами и взятие Львова был награжден сразу двумя степенями высший воинской награды ‒ ордена Святого Георгия (4-й и 3-й). За Галицийскую битву, в ходе которой русские войска заняли почти всю восточную Галицию, Буковину и осадили Перемышль, Рузский был удостоен ордена Святого Георгия 2-й степени, став, таким образом, одним из трех русских военачальников, награжденных тремя степенями военного ордена. (Помимо Рузского три степени ордена Св. Георгия за Первую мировую войну имели лишь Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич и командующий Юго-Западным фронтом генерал Н.И. Иванов). В это время Рузский обрел всенародную славу как «завоеватель Галиции», его портреты печатались на страницах всероссийской прессы, подвиги генерала изображались на лубках и прославлялись в незатейливых стихах, присылаемых их авторами в газеты.
Находясь на пике славы, в сентябре 1914 г. Рузский вместо Я.Г. Жилинского был назначен Главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта. Под его командованием солдаты Русской армии сражались в Варшавско-Ивангородской, Лодзинской и Августовской операциях. Но в ходе них выяснилось, что Рузский допустил целый ряд серьезных ошибок, дорого стоящих нашей армии. Во время Лодзинской операции Рузский, несмотря на достигнутый нашими армиями успех, отдал приказ об отступлении, из-за чего группа германских войск смогла выйти из окружения. А в Августовской операции именно его действия стали причиной . Кроме того, как отмечали современники, у Рузского была привычка обвинять в своих ошибках и неудачах подчиненных, которые, как правило, и расплачивались за стратегические провалы командующего фронтом. А некоторые успехи Рузского позже были оценены военными историками как желание генерала стяжать себе славу, а не как продуманные действия, направленные к общему успеху.

Генерал А.П. Будберг вспоминал: «Генерала Сиверса обвинили и покарали ‒ он командовал 10 армией и ответил полностью за постигшую ее катастрофу. Следователем, судьею и экзекутором явился Главнокомандовавший Севевро-Западным фронтом генерал-адъютант Рузский, фактически несравненно более виновный в разгроме нашей армии (...). Ведь все самые подробные данные о положении наших корпусов и дивизий и об обнаруженных против них неприятельских силах были отлично и своевременно известны оперативному отделу штаба фронта... (...) Эти сведения не могли оставлять сомнений в том, какая опасная для 10 армии операция была начата против нее неприятелем. Затем, штабу фронта было отлично известно, что на всем 170 верстном фронте 10 армии не имелось ни одного батальона в резерве, и что, следовательно, в руках генерала Сиверса не было ни малейшей возможности встретить немецкий обход соответственным контрманевром, т.е. активными действиями своего резерва против обходящего неприятеля. При таких условиях само фронтовое Главнокомандование обязано было трезво оценить всю опасность положения 10 армии, взять на себя руководство и ответственность и само приказать генералу Сиверсу немедленно и со всей поспешностью увести его растянутые и безрезервные корпуса из под уже неотвратимого и неостановимого и в высокой степени опасного флангового удара, и не считаться при этом уже ни с чем другим, кроме избавления целой армии от нависшей над ней и неоспоримой угрозы двойного обхода...» Но наказание понес только генерал Сиверс, отстраненный от командования, Рузский же вышел сухим из воды.

Генерал А.А. Брусилов оставил о Рузском следующий отзыв: «...человек умный, знающий, решительный, очень самолюбивый, ловкий и старавшийся выставлять свои деяния в возможно лучшем свете, иногда в ущерб своим соседям, пользуясь их успехами, которые ему предвзято приписывались» . А известный военный историк А.А. Керсновский, анализируя взятие Рузским Львова, писал, что штаб 3-й армии, упорно не желал считаться с создавшейся на театре войны обстановкой: «Генерал Рузский был всецело под влиянием своего начальника штаба генерала В.М. Драгомирова, а этот последний твердо решил искать лавров на штурме "первоклассной крепости" Львова. С 13 по 20 августа расплывчатые директивы штаба фронта (полупросьбы, полуприказания) указывали на всю важность и решительность событий на люблинском и томашовском направлениях и на всю срочность помощи 5-й армии. Рузский и Драгомиров оставались глухими к этим доводам, преследуя лишь свои узкоэгоистические цели. Отписываясь на уговоры фронта двигаться главными силами на север от Львова и направить XXI корпус и конницу в тыл Ауффенбергу, штаб 3-й армии все продолжал ломить фронтально на никому ненужный Львов...»
Подводя итог первого года войны, Керсновский резюмировал: «...Было сорвано наше "наступление в сердце Германии". Генерал Рузский, на немощные плечи которого была возложена эта грандиозная задача, с нею не справился. Не сумев ничего организовать, не желая ничего предвидеть, ни даже видеть совершившееся, он сделал все от него зависевшее для осуществления неслыханной катастрофы. Катастрофы этой не произошло благодаря стойкости войск и энергии штаба 5-й армии, возглавлявшейся мужественным Плеве. Тактический позор Лодзи ‒ позор Брезин ‒ выправлялся крупным стратегическим успехом. Германская армия ретировалась из-под Лодзи растерзанной. (...) Армиям Северо-Западного фронта оставалось преследовать ее и даже просто следовать за ней, дав тем временем возможность Юго-Западному фронту нанести решительный удар австро-венгерским армиям у Кракова. Но генерал Рузский не желал видеть этих выгод. Растерявшийся, деморализованный, он все свои помыслы обратил на отступление ‒ отступление сейчас же и во что бы то ни стало. Рузскому удалось навязать свои взгляды стратегически пустопорожнему месту, именовавшемуся "Ставкой Верховного главнокомандующего", ‒ и Ставка целиком пошла по плачевному камертону штаба Северо-Западного фронта. Всю свою вину генерал Рузский свалил на подчиненных» .

В марте 1915 года Н.В. Рузский, сославшись на болезнь, покинул фронт, сдав командование генералу М.В. Алексееву. Его ближайший помощник, начальник штаба Северо-Западного фронта генерал М.Д. Бонч-Бруевич, вспоминал: «Весной 1915 года генерал Рузский заболел и уехал лечиться в Кисловодск. Большая часть "болезней" Николая Владимировича носила дипломатический характер, и мне трудно сказать, действительно ли он на этот раз заболел, или налицо была еще одна сложная придворная интрига» . Получив назначение членом Государственного и Военного советов, Рузский на некоторое время отошел от непосредственного командования войсками, однако уже в июне 1915-го он, по личному решению Императора Николая II, несмотря на выявленные недостатки и ошибки, вновь получил командование армией, а с августа того же года был поставлен на пост главнокомандующего армиями Северного фронта. Впрочем, с декабря 1915 по август 1916 года Рузский по состоянию здоровья сдавал командование фронта, а вернувшись на этот пост, отличался большой осторожностью и избегал решительных действий.
А.А. Керсновский крайне нелестно отзывается о полководческих талантах Рузского: «Стоит ли упоминать о Польской кампании генерала Рузского в сентябре ‒ ноябре 1914 года? О срыве им Варшавского маневра Ставки и Юго-Западного фронта? О лодзинском позоре? О бессмысленном нагромождении войск где-то в Литве, в 10-й армии, когда судьба кампании решалась на левом берегу Вислы, где на счету был каждый батальон... И, наконец, о непостижимых стратегическому ‒ и просто человеческому ‒ уму бессмысленных зимних бойнях на Бзуре, Равке, у Болимова, Боржимова и Воли Шилдовской? (...) Один лишь Император Николай Александрович всю войну чувствовал стратегию. Он знал, что великодержавные интересы России не удовлетворит ни взятие какого-либо "посада Дрыщува", ни удержание какой-нибудь "высоты 661" (...) но, добровольно уступив свою власть над армией слепорожденным военачальникам, не был ими понят. Все возможности были безвозвратно упущены, все сроки пропущены. И, вынеся свой приговор, история изумится не тому, что Россия не выдержала этой тяжелой войны, а тому, что русская армия могла целых три года воевать при таком руководстве!»

Зато в событиях февраля 1917 года генералу Рузскому довелось «отличиться». Поддерживая связи с думской либеральной оппозицией (которая, заметим, всячески его прославляла как выдающегося полководца) и являясь одним из активных участников военного заговора против Государя, Рузский сыграл крайне важную роль в отречении Императора Николая II. «Вожди армии фактически уже решили свергнуть царя, ‒ вспоминал хорошо осведомленный о планах российской оппозиции британский премьер Д. Ллойд-Джордж. ‒ По-видимому, все генералы были участниками заговора. Начальник штаба генерал Алексеев был безусловно одним из заговорщиков. Генералы Рузский, Иванов и Брусилов также симпатизировали заговору» . Об этом же писал и генерал Бонч-Бруевич: «Мысль о том, что, пожертвовав царем, можно спасти династию, вызвала к жизни немало заговорщических кружков и групп, помышлявших о дворцовом перевороте. По многим намекам и высказываниям я мог догадываться, что к заговорщикам против последнего царя или по крайней мере к людям, сочувствующим заговору, принадлежат даже такие видные генералы, как Алексеев, Брусилов и Рузский» .
В итоге, вместо того, чтобы защитить своего Императора и направить имевшиеся в его распоряжении силы для подавления вспыхнувшей революции, Рузский, забыв о присяге, активно посодействовал ее торжеству. А между тем, если верить генералу А.С. Лукомскому, Николай II, не чувствуя «твердой опоры в своем начальнике штаба генерале Алексееве», «надеялся найти более твердую опору в лице генерала Рузского». От генерала, таким образом, зависело очень многое. Как справедливо отмечает Г.М. Катков, «Государь был вправе ждать, что главнокомандующий Северным фронтом первым делом спросит, какие будут приказания» . Но Рузский, по свидетельству дежурного флигель-адъютанта полковника А.А. Мордвинова, вместо того, чтобы поддержать Царя, бывшего к тому же Верховным главнокомандующим, повел себя совсем иначе: «Теперь уже трудно что-нибудь сделать, ‒ с раздраженной досадой говорил Рузский, ‒ давно настаивали на реформах, которые вся страна требовала... не слушались... теперь придется, быть может, сдаваться на милость победителя» . Контр-адмирал А.Д. Бубнов писал о Рузском: «Этот болезненный, слабовольный и всегда мрачно настроенный генерал нарисовал Государю самую безотрадную картину положения в столице и выразил опасения за дух войск своего фронта по причине его близости к охваченной революцией столице...» .

Состоявший при министре Двора барон Р.А. фон Штакельберг, находившийся в эти дни в царском в поезде, отмечал в своих воспоминаниях: «Я твердо убежден, что действия, и поведение Рузского в эти исторические дни имели большие последствия на дальнейшее развитие событий. Чтобы иметь правильное представление о событиях и роли в них Рузского с момента нашего прибытия во Псков надо было точно знать содержание переговоров Рузского в эту ночь с Родзянкой, Алексеевым и другими командующими фронтами. К сожалению, это останется тайной Рузского, тайной, которая ляжет вечным проклятием на его совести. (...) Его поведение внушало нам большое недоверие. Опираясь на Родзянко и прочих своих товарищей единомышленников, он принудил Государя дать согласие на отречение от Престола. Мы не могли отделаться от чувства, что Царь находится в руках предателей» .

В роковой для монархии день, 2 марта 1917 года командующий Северо-Западным фронтом генерал Н.В. Рузский, по словам министра Двора Ф.Б. Фредерикса, оказывал на Царя явное давление: «...Государь колебался и противился, (...) подпись под отречением была у него вырвана насильно грубым обращением с ним генерала Рузского, схватившего его за руку и, держа свою руку на манифесте об отречении, грубо ему повторявшего: "Подпишите, подпишите же. Разве вы не видите, что вам ничего другого не остается делать. Если вы не подпишете, ‒ я не отвечаю за вашу жизнь". ‒ Я попробовал вмешаться, ‒ рассказывал Фредерикс, ‒ но Рузский мне нагло заметил: "Я не с вами разговариваю. Вам больше нет здесь места. Царь должен был бы давно окружить себя русскими людьми, а не остзейскими баронами"» . По свидетельству Штакельберга, в тот момент, когда депутат А.И. Гучков, приехавший к Императору, стал настаивать на том, что в сложившихся условиях отречение неизбежно, «Рузский имел бестактность, перед тем как Государь имел возможность высказаться, заявить: "Это уже случилось"» . Сам же Рузский так трактовал свою роль в отречении Государя: «Я убедил его отречься от престола в тот момент, когда для него самого ясна стала неисправимость положения» .

В этот день Император Николай II записал в своем дневнике следующие строки: «Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2 1/2 ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии, нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!»

«Имя Рузский , ‒ заключал Штакельберг, ‒ будет во всем мире символом измены русских генералов, русских дворян, русских солдат и всех слоев русского народа своему Императору» . Позже рассказывали, что Государь, находясь под арестом, так отозвался о Рузском: «Бог не оставляет меня, Он дает мне силы простить всех моих врагов и мучителей, но я не могу победить себя еще в одном: генерал-адъютанта Рузского я простить не могу!»
Изменивший своему Императору генерал Рузский быстро сошел с исторической сцены. Воспользоваться плодами революции и, тем более, стать ее «героем», ему не довелось. Уже 25 апреля 1917 года он потерял пост главнокомандующего фронтом и уехал в Кисловодск. «Даже умный и образованный Рузский наивно полагал, что достаточно Николаю II отречься, и поднятые революцией народные массы сразу же успокоятся, а в армии воцарятся прежние порядки, ‒ вспоминал перешедший на сторону большевиков генерал Бонч-Бруевич. ‒ Поняв, что желаемое "успокоение" не придет, Рузский растерялся. Интерес к военной службе, которой генерал обычно не только дорожил, но и жил, ‒ пропал. Появился несвойственный Николаю Владимировичу пессимизм, постоянное ожидание чего-то худшего, неверие в то, что все "перемелется ‒ и мука будет". ...Рузский, насколько я знаю, не собирался после февральского переворота ловить рыбку в мутной воде и лезть в доморощенные Бонапарты. (...) Рузский не помышлял о контрреволюционном перевороте и не собирался участвовать в заговорах, в которые его охотно бы вовлекли. Однако хотя к царской фамилии он относился в общем отрицательно, ни широты кругозора, ни воли для того, чтобы сломать свою жизнь и пойти честно служить революции, у него не хватило. Он сделал, впрочем, попытку заявить о своей готовности служить новому строю. Почему-то он выбрал для этого такой необычный способ, как телеграмму, адресованную моему брату Владимиру Дмитриевичу (видному большевику. ‒ А.И .), связанному с Центральным Исполнительным Комитетом, но никакого отношения к Временному правительству не имевшему. Возможно, что не раз слыша от меня о моем брате, Рузский и решил обратиться к нему. Являвшегося в это время военным министром московского промышленника и домовладельца Гучкова он не выносил и считал, что тот губит армию. Телеграмма Рузского была напечатана в "Известиях Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов", но на этом и закончилась попытка Николая Владимировича определить свое дальнейшее поведение» .

Буквально сразу же после объявления большевиками красного террора, 11 сентября 1918 года, находившийся на лечении в Ессентуках генерал был арестован. После того, как Рузский отклонил предложение возглавить части Красной армии, 19 октября 1918 года он, в числе прочих заложников, был казнен на Пятигорском кладбище. Как показал белым один из свидетелей казни Рузского, убит он был чекистом Г.А. Атарбековым. «Рузского я зарубил сам, ‒ говорил Атарбеков, ‒ после того, как он на мой вопрос, признает ли он теперь великую российскую революцию, ответил: "Я вижу лишь один великий разбой". "Я ударил, ‒ продолжал Атарбеков, ‒ Рузского вот этим самым кинжалом (при этом Атарбеков показал бывший на нем черкесский кинжал) по руке, а вторым ударом по шее"» ...
Таким образом, сыграв одну из ключевых ролей в торжестве революции, генерал Рузский вскоре стал одной из ее многочисленных жертв, успев незадолго до своей трагической смерти воочию увидеть реальные плоды, которые принес стране организованный при его активном участии государственный переворот.
Подготовил Андрей Иванов , доктор исторических наукМилий Алексеевич Балакирев - русский композитор, пианист, дирижер и музыкально-общественный деятель. Глава «Могучей кучки», один из основателей (в 1862 году) и руководитель (в 1868-1873 и 1881-1908 годах) Бесплатной музыкальной школы. Дирижер Русского музыкального общества (1867-1869), управляющий Придворной певческой капеллой (1883-94). «Увертюра на темы трех русских песен» (1858; 2-я редакция 1881), симфонические поэмы «Тамара» (1882), «Русь» (1887), «В Чехии» (1905), восточная фантазия для фортепиано «Исламей» (1869), романсы, обработки русских народных песен.
Милий Алексеевич Балакирев родился 2 января 1837 года (21 декабря 1836 г. по старому стилю), в Нижнем Новгороде, в семье чиновника из дворян. Брал уроки у пианиста Александра Ивановича и дирижёра Карла Эйзриха (в Н. Новгороде). Музыкальному развитию Милию способствовало его сближение с писателем и музыкальным критиком Александром Дмитриевичем Улыбышевым. В 1853 - 1855 годах Милий Алексеевич состоял вольнослушателем математического факультета Казанского университета. В 1856 дебютировал в Петербурге как пианист и дирижёр.
"Руслан" окончательно покорил себе чешскую публику. Восторженность, с которой его приняли, не уменьшается и теперь, хотя я его уже дирижировал 3 раза. (о "Руслане и Людмиле" Глинки)
Балакирев Милий Алексеевич
Большое влияние на формирование идейно-эстетических позиций Балакирева оказала его дружба с художественным и музыкальным критиком, историком искусства, почетным членом Петербургской АН Владимиром Васильевичем Стасовым.
В начале 60-х годов под руководством Милия Алексеевича создался музыкальный кружок, известный как «Новая русская музыкальная школа», «Балакиревский кружок», «Могучая кучка». В 1862 композитор совместно с хоровым дирижёром и музыкальным деятелем Гавриилом Якимовичем Ломакиным организовал в Петербурге Бесплатную музыкальную школу, ставшую очагом массового музыкального образования, а также центром пропаганды русской музыки. В 1867 - 1869 был главным дирижёром Русского музыкального общества.
М. А. Балакирев способствовал популяризации опер Михаила Ивановича Глинки: в 1866 дирижировал в Праге оперой «Иван Сусанин», в 1867 руководил пражской постановкой оперы «Руслан и Людмила».
Конец 1850-х - 60-е годы были периодом интенсивной творческой деятельности Милия. Сочинения этих лет - «Увертюра на три русские темы» (1858; 2-я ред. 1881), вторая увертюра на три русские темы «1000 лет» (1862, в поздней ред. - симфоническая поэма «Русь», 1887, 1907), чешская увертюра (1867, во 2-й ред. - симфоническая поэма «В Чехии», 1906) и др. - развили традиции Глинки, в них ярко проявились характерные черты и стиль «Новой русской школы» (в частности, опора на подлинную народную песню). В 1866 году был опубликован его сборник «40 русских народных песен для голоса с фортепьяно», явившийся первым классическим образцом обработки народных песен.
В 70-е годы Балакирев ушел из Бесплатной музыкальной школы, перестал писать, концертировать и порвал с членами кружка. В начале 80-х годов он вернулся к музыкальной деятельности, но она утратила боевой «шестидесятнический» характер. В 1881 - 1908 годах он вновь возглавлял Бесплатную музыкальную школу и одновременно (в 1883 - 1894) состоял директором Придворной певческой капеллы.
Центральная тема творчества композитора - тема народа. Народные образы, картины русской жизни, природы проходят через большинство его сочинений. Для Милия Балакирева характерен также интерес к теме Востока (Кавказа) и музыкальным культурам других стран (польской, чешской, испанской).
Основная сфера творчества Милия Алексеевича - инструментальная (симфоническая и фортепьянная) музыка. Он работал преимущественно в области программного симфонизма. Лучший образец его симфонической поэмы - «Тамара» (около 1882, по одноименному стихотворению русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова), построенная на оригинальном музыкальном материале изобразительно-пейзажного и народно-танцевального характера. С именем Милия связано рождение жанра русской эпической симфонии. К 60-м годам относится замысел 1-й симфонии (наброски появились в 1862, первая часть - в 1864, окончена симфония в 1898). В 1908 году была написана 2-я симфония.
Милий Балакирев - один из создателей оригинального русского фортепианного стиля. Лучшее из его фортепианных произведений - восточная фантазия «Исламей» (1869), сочетающая яркую картинность, своеобразие народно-жанрового колорита с виртуозным блеском.
Видное место в русской камерно-вокальной музыке занимают романсы и песни Милия Алексеевича.
Милий Алексеевич Балакирев скончался 29 мая (16 мая по старому стилю) 1910 года, в Петербурге.