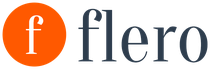Какие цели вы поставили перед труппой? Какой она будет через три года или через пять лет?
Не нужно ставить или формулировать определенные цели, нужно уметь прислушаться к труппе, понять, каков ее внутренний настрой, и двигаться медленно и постепенно. Мы ежедневно проделываем огромную работу, выкладываемся полностью - все мы. Я не полководец, который идет впереди, указывая, куда двигаться остальным. Я не тащу труппу за собой, а потихоньку подталкиваю сзади, направляя ее движение. Дело совсем не в том, чего бы хотел я, - я должен чувствовать, чего хочет труппа, публика, чего хочет Петербург. Изменения могут казаться очень постепенными, но через пять или шесть лет, оглянувшись на пройденный путь, мы убедимся, что поменялось все.
Вы в первую очередь художник или глава балетной компании, который отвечает за ее репутацию?
В душе я прежде всего танцовщик, потом хореограф, потом директор. А в жизни получается наоборот: в первую очередь я руководитель, затем хореограф, затем танцовщик. В течение двадцати лет я был директором балетной компании в Испании, здесь еще сложнее: труппа больше, и она должна сочетать в своем репертуаре классический и современный танец. Это непросто - быть хореографом и директором. К счастью, мы все объединены любовью к искусству, даже те, кто не выходит на сцену. Администрация, сотрудники постановочной части или костюмеры - мы все преданы балету.
«Изменения могут казаться очень постепенными, но через пять-шесть лет в труппе поменяется все».
Похожа ли труппа на большую семью или на эффективное про- изводство?
Театральные работники часто говорят про себя: «Мы одна семья», и это недалеко от истины. В бизнес-корпорациях служащие могут никогда не видеть директора или видеть его один раз в год, а мы очень близки с танцовщиками, проводим вместе гораздо больше времени, чем сотрудники любой фабрики. Я фактически принадлежу труппе.
Петербургскую балетную публику принято считать излишне рафинированной и холодной. Что вы о ней думаете?
Здешняя публика не кажется мне такой уж сложной. Балет в Петербурге любят, и все мои работы были приняты очень хорошо, начиная с Nunc Dimittis, «Без слов», «Дуэнде» и «Прелюдии», продолжая«Спящей красавицей» и совсем недавней постановкой «Многогранность» на музыку Баха. Те, кто привержен только традиционной классике, мне кажется, составляют очень небольшую часть балетной аудитории. Не исключаю, что и в классическом багаже Михайловского театра будут изменения, но их следует производить осторожно и деликатно.
Где вас можно встретить в Петербурге помимо театра?
У меня только один свободный день в неделю, и приехал я сюда не ради частной жизни, а чтобы работать. Гуляю, иногда заглядываю в кафе, люблю купить что-нибудь для дома. Больше всего в жизни я ценю возможность видеть, ощущать и пробовать новое. И Петербург дает мне такую возможность.
В Михайловском театре прошла самая громкая балетная премьера сезона, давно обещанная и давно ожидаемая. «Спящая красавица», наше национальное достояние, наше классическое «всё», предстала в новой постановке, причем в постановке хореографа иной, неклассической формации. А именно Начо Дуато, с которым связаны сейчас все надежды Михайловского театра. Но, к великому сожалению, надежды на неординарный, не имеющий аналогов спектакль, каким он представлялся по интервью и аннотациям, не оправдались: все, что было априори заявлено — не реализовалось.
Главный интерес заключался в том, что Начо обещал сделать совершенно новую, полностью оригинальную версию без всякой оглядки на первоисточник или на какие бы то ни было его модификации (их существует немало). Зная Начо как мастера современного бессюжетного балета, орнаментальных танцевальных композиций, можно было предположить, что он поставит нечто, ни в малейшей степени не напоминающее общеизвестный образец. (У насмешника Матса Эка, например, та же «Спящая» была передернута в эпатажную историю про красавицу, подсевшую на иглу). В то же время Дуато предупредил, что вовсе не отказывается от старинного либретто со всеми его персонажами, ясным сюжетом, развернутым действием и даже дивертисментом. Так что оставалось только гадать, как он умудрится наложить на это либретто свой танцевальный язык и какую химическую реакцию даст это соединение разных типов художественного мышления.
Отступления от канона и в самом деле разительны, однако они — не такого плана, чтобы составить кардинально новое произведение. Изменена только «лексика», притом, что язык остался прежним, и, главное, использована классическая структура. И хотя заново придуманных движений, которые обещал Дуато, здесь предостаточно, вписаны они все в те же границы шедевра Петипа и в старинный каркас «балета в пачках». И, надо сказать, торчат из него во все стороны, потому что они ему не по мерке. И не по мере. Все эти непривычные силуэты, изломы рисунка, вкрапляющиеся в танец, выглядят не новизной, а бесцельными искажениями текста. А лучшими смотрятся как раз те места, где просвечивает оригинал. Так что получился не новый балет, а просто очередная версия старого, к тому же более чем спорная: с невнятной хореографией, неумело выстроенной драматургией, пустоватыми мизансценами и неожиданностями вроде включения кавалеров в изначально женский ансамбль фей.
Очевидно, что классика для Дуато по-прежнему иностранный язык, на котором он хоть уже и изъясняется («метод погружения» сработал), но тонкостей не чувствует. Похоже даже, что она кажется ему единым нерасчлененным пластом, иначе как могло случиться, что у него здесь перемешаны пластические коды всех подряд балетов XIX века: в сцену нереид вплавлены мотивы «Лебединого озера», в партию феи Сирени — вариация Мирты (предводительницы виллис в «Жизели»), да и Дезире (у Петипа изысканный французский принц, торжественно являющийся поцелуем разбудить красавицу), у Дуато копирует то рефлектирующего Зигфрида («Лебединое озеро»), то Альберта, который, терзаясь, идет на могилу погубленной им девушки («Жизель»). Никакой новой глубины, признаться, в этом нет, есть лишь эклектика — причем, почти пародийная.
Справедливости ради скажу, что в такое вот неубедительное целое вкраплены отдельные убедительные нюансы. Например, образ феи Карабосс, по традиции отданный исполнителю-мужчине, но решенный оригинально: в исполнении Ришата Юлбарисова это не старуха, но некая фантастическая женщина, прекрасная и огромная, бесшумно летающая по сцене, оставляя за собой струящийся черный хвост — гигантское шелковое покрывало. Или такой момент, как усиление ряда драматических мотивов, потенциально присутствующих в оригинале, но обычно не проявленных. На периферии спектакля Дуато разыгрываются несколько драм: например, подлинное горе Королевы-матери при мнимой смерти принцессы, или страдания дамы, одной из приближенных принца: сцены этого персонажа, в оригинале лишь слегка выделенного из кордебалета, превращаются здесь в историю неразделенной любви. Живые моменты разбросаны по спектаклю. Однако погоды они не делают.
Не помог балету ни дизайн Ангелины Атлагич (легкие декорации с мотивами бисквитного фарфора и изящные костюмы), ни кордебалет, который, работал на порядок лучше, чем в спектаклях текущего классического репертуара, ни отличные артисты Ирина Перрен и Леонид Сарафанов, танцевавшие премьеру. (Умолчим про оркестр под управлением Валерия Овсянникова, который даже не гремел — громыхал, сводя на нет все волшебство партитуры). В других составах заявлены Светлана Захарова и Наталья Осипова с Иваном Васильевым, но трудно сказать, дадут ли они спектаклю другое измерение.
Что же произошло?
Начо Дуато, год назад пришедший в академический балетный театр, продолжает выстраивать свои отношения с классикой, причем выстраивает их как сюжет собственной творческой жизни. Почему бы и нет? Та же коллизия лежала в основе его предыдущих работ — спорного «Nunc Dimittis» и без сомнения удачной «Прелюдии». Только там она решалась иначе — внутри бессюжетного балета, на уровне столкновения двух художественных систем; в первом случае это был взгляд на «русское» со стороны, во втором — опыт взаимодействия. Теперь же — попытка войти внутрь. Начо просто пошел другим путем, решив, что чужим языком уже овладел и теперь можно на нем хоть стихи писать. Не получилось. Вероятно, он будет продолжать поиски других, новых ракурсов волнующей его эстетической проблемы.
Сложность лишь в том, что театр, в котором он теперь работает — репертуарный, то есть, любой спектакль здесь ставится всерьез и надолго (не так, как в западном прокате, где, пройдя подряд столько-то раз, спектакль безболезненно сходит со сцены, уступая место новым). И данная премьера имеет статус не только очередной работы Начо Дуато, но и статус «Спящей красавицы» Михайловского театра.
Уходишь со спектакля и думаешь: а нужен ли вообще этот спор с Петипа, заведомо обреченный? Честно говоря, после него очень хочется пересмотреть «Спящую» Вихарева, тончайшую реконструкцию старинного подлинника, в которой балетмейстер, отталкиваясь от «буквы», приходит к воссозданию «духа». Но для Начо Дуато этот спор, очевидно, — часть индивидуального творческого процесса, так что нам остается ждать, что будет дальше. Интерес не ослабевает.
Начо Дуато родился в 1957 году в семье губернатора Валенсии. Кроме него у родителей было еще 8 детей, из которых шестеро девочек занимались любительскими танцами. Отец Начо ничего не хотел слышать о танцевальном образовании для сына. Впрочем, во франкистской Испании система преподавания классического танца и не была налажена. В 16 лет, избавившись от родительской опеки, Дуато подрабатывал танцовщиком в музыкальных комедиях, мюзиклах и шоу, таких как «Gospel», «Волосы», «Шоу ужасов Рокки Хоррора».
В 18 лет поступил в лондонскую Школу Мари Рамбер, сильнейшую в Европе в плане постижения modern dance. Быстро ощутил необходимость в классической балетной подпитке и через 2 года переехал в Брюссель, чтобы продолжить обучение в бежаровской школе «Мудра». Во время его учебы в брюссельском театре La Monnaie выступали труппы Луи Фалько, Дженифер Маллер и Лара Любовича. Увлекшись американским модерном, Дуато отправляется в Нью-Йорк в Школу Американского театра танца Элвина Эйли. После окончания учебы он не смог остаться работать в Америке, так как у него не было карты резидента.
Возвратившись в Европу, свой первый профессиональный контракт подписал в 1980 со стокгольмским «Кульберг-балетом». А через год его приглашает в Нидерландский театр танца (NDT) Иржи Килиан. Как танцовщик Дуато участвует во всех проектах театра. Килиан ставит на него «Историю солдата» Стравинского и подталкивает молодого артиста, как до этого поступал с любым своим танцовщиком, в котором видел искру таланта, к созданию хореографии. Дуато открыто признается во всех интервью, что собственную креативность он осознал в полной мере только когда оказался в особой атмосфере гаагского театра при Килиане.
В 1983 Дуато сочиняет номер «Огражденный сад» (Jardi Tancat) для Международного хореографического конкурса в Кельне и получает за него приз. Критики зафиксировали момент рождения нового хореографа с оригинальным стилем. Их поразил не пластический рисунок сам по себе (хореография во многом вторичная, похожая на Эка и Килиана), а его сплав с испанской музыкой и фольклором. Дуато тогда использовал песни с диска «Jardi Tancat» популярной исполнительницы Марии дель Мар Бонет, которая переложила на музыку стихотворения каталонских поэтов. Многократные записи номера выложены в интернете, и сам Дуато не имеет ничего против этого. Редкий случай, когда о хореографе с первой работы можно сказать, что он состоялся в профессии. У этой работы недетский почерк, в ней есть все, что определит стиль раннего Дуато – фольклорная певучесть, незримое присутствие природы, отсутствие напряжения и агрессии в самом танце, точное совпадение эмоции слова, стиха и эмоции движения, какое-то необыкновенное сглаживание углов при смене ритма.
В сотрудничестве с художником Вальтером Ноббе Дуато сочиняет 12 балетов для NDT, в том числе и перенесенный в Михайловский театр «Duende» (1991). В 1988 он становится постоянным хореографом в этом театре вместе с Килианом и Хансом ван Маненом.
В 1990 Дуато возвращается в Испанию, чтобы возглавить Национальный театр танца, созданный в 1979 Виктором Ульяте. На посту он пребывал 20 лет – вплоть до июня 2010. С его приходом начался новый этап истории этой труппы. Дуато полностью поменял репертуар, наотрез отказавшись от классики. Он перенес сюда все свои старые работы, создал много новых, и регулярно приглашал на постановки старших товарищей по цеху – Эка, Килиана, Форсайта. Его серьезно критиковали за уничтожение классического репертуара, едва собранного по крохам усилиями предыдущих худруков, в число которых входила и Майя Плисецкая. Но Дуато был уверен в себе и в необходимости создать такое направление танца, которое могло бы быть идентифицировано как очень современное и, главное, чисто испанское. Он заявил тогда, что «танец в Испании так и не будет существовать, если только мы его не создадим здесь и сейчас на базе того, кем мы являемся сегодня - с нашими проблемами и нашей чувствительностью».
Дуато продолжал ставить спектакли и в других театрах. Так его эпохальный балет «Без слов» (1998) на музыку Шуберта и «Remanso» (1997) на музыку Гранадоса достались сначала Американскому балетному театру. В 1999 «Remanso» попало в Гамбург к Ноймайеру, который не мог пройти мимо хореографа, оцененного его друзьями Эком и Киланом, чьим вкусам он однозначно доверял.
В 1998 Дуато поставил свой первый двухактный балет «Ромео и Джульетта», сделав его максимально абстрактным.
Коренной перелом в творчестве хореографа наступил, когда ему заказали балет к юбилею Баха в Ваймаре. Фольклорно-растительный стиль уступил место совсем иным материям. Не сильно изменились пластика и рисунок танца, но подход к балету у Дуато стал качественно другим. За сложным и наукообразным названием «Многогранность. Формы Тишины и Пустоты» скрывался и тонкий юмор по поводу серьезности господина Баха и искренняя почтительность к патриарху немецкой музыки, и толковый рассказ о том, что он - Бах, собственно, привнес в музыку. За этот спектакль Дуато получил приз «Бенуа де ля данс» в 2000 году.
Конец 90-х и начало 2000-х прошли у Дуато под знаком подношений большим композиторам. Так «Многогранность» коррелирует с чуть более ранней работой - «Без слов» и поздней - «Арканджело» (2000). В первой правит Бах, во второй – Шуберт, в третьей – Корелли и Скарлатти.
Знаковой работой 2000-х стала «Белая тьма» (2001). Исследователи творчества хореографа классифицируют ее (и еще балет 2002 - «Кастраты») как редкий тип социального спектакля у Дуато. Он поставил его в память о сестре, погибшей от передозировки наркотиками. Особенностью социальной темы стала ее максимальная завуалированность, ненавязчивость.
В январе 2011 Дуато стал худруком балетной трупы Михайловского театра, для которой поставил в общей сложности 10 балетов – 5 оригинальных и 5 перенесенных:
2011
Nunc demittis на музыку А. Пярта и Д. Азагра (новый балет), в один вечер с «Duende» на музыку К. Дебюсси и «Без слов» Ф. Шуберта
«Прелюдия» на музыку Г. Ф. Генделя, Л. Бетховена и Б. Бриттена (новый балет)
«Спящая красавица» П. Чайковского (новый балет)
2012
«Многогранность. Формы тишины и пустоты» на музыку И. С. Баха
«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева
2013
«Невидимое» (Invisible) на музыку А. Пануфника (новый балет), вместе с «Na Floresta»
«Щелкунчик» П. Чайковского (новый балет)
Другие постановки Н. Дуато в России: «Na Floresta» на музыку Э. Вила-Лобоса и В. Тисо и «За вас приемлю смерть» на музыку испанских мадригалов XV-XVI вв. (2009 и 2011, МАМТ); «Мадригал» для АРБ (2011); «Cor perdut» на музыку М. дель Мар Бонет (номер для Светланы Захаровой, 2011); «L’amoroso» на музыку венецианских и неаполитанских композиторов (МГАХ, 2013)
В январе 2014 Дуато покинул свой пост худрука балета Михайловского театра, чтобы занять аналогичную позицию в Берлинском государственном балете. Ориентировочно он возглавит берлинскую труппу, начиная со следующего сезона (2014/2015)
Подготовила Екатерина Беляева
С 1 января 2011 года один из ведущих хореографов современности Начо Дуато возглавит балетную труппу Михайловского театра - об этом на прошедшей несколько часов назад в Москве пресс-конференции заявили сам Дуато и генеральный директор Михайловского Владимир Кехман.
С 1 января 2011 года один из ведущих хореографов современности Начо Дуато возглавит балетную труппу Михайловского театра - об этом на прошедшей несколько часов назад в Москве пресс-конференции заявили сам Дуато и генеральный директор Михайловского Владимир Кехман.
Слухи, лихорадившие околобалетное сообщество несколько последних месяцев, оказались правдой. С появлением Дуато Михайловский театр автоматически выходит в высшую балетную лигу, а Владимир Кехман в буквальном смысле творит культурную революцию в России.
Для того, чтобы понять масштаб и значение случившегося, обратимся к фактам. 53-летний Начо Дуато - ученик Мориса Бежара и один из главных хореографов современности - в пантеоне титанов занимает место рядом с Иржи Килианом, Уильямом Форсайтом и Матсом Эком. Его спектакли идут в репертуаре ключевых трупп мира - Нидерландском театре балета (NDT), балете Парижской оперы, American Ballet Theatre. Еще недавно сама возможность заполучить в репертуар отечественных театров "что-нибудь от Дуато" казалась несбыточной мечтой. Пополнившая год назад афишу столичного Театра Станиславского и Немировича-Данченко миниатюра Дуато "Na Floresta" стала гвоздем московского балетного сезона и вывела обогатившейся ею коллектив в балетные хедлайнеры. И вот теперь тот самый Дуато становится художественным руководителем Михайловского балета.
Напомним, что этот пост оставался вакантным с осени прошлого года, когда его покинул Фарух Рузиматов, в настоящее время де-юре продолжающий сотрудничество с театром в качестве советника гендиректора. Фактически руководство труппой с октября 2009 года осуществлял главный балетмейстер театра Михаил Мессерер (как подчеркнул Владимир Кехман, он и впредь сохранит за собой второй по значению пост в иерархии Михайловского балета) - превосходный педагог и тонкий знаток балетных редкостей, но, увы, не харизматичный лидер, способный зажечь труппу творческим огнем. В гипотетическом списке кандидатов на пост худрука Михайловского балета значились и Джон Ноймайер, и Юрий Григорович - трудно понять, кто из них действительно был "на прицеле" у Владимира Кехмана, а чьи имена породило коллективное околобалетное бессознательное. В числе прочих фигурировали и самые фантастические варианты: от якобы покидающего Москву нынешнего худрука балета Большого Юрия Бурлаки до якобы возвращающегося в Петербург экс-заведующего труппой Мариинки и нынешнего худрука балета миланского Alla Scala Махара Вазиева. Но Кехман принял решение, которого никто не предполагал.

Хотя, при ближайшем рассмотрении, появление Дуато в Михайловском не выглядит таким уж невероятным. Наоборот: этот шаг кажется естественным и едва ли не идеальным. Не секрет, что отечественная хореография в последние десятилетия находится в глубоком кризисе - на сегодняшний день в стране просто нет художника, который смог бы повести за собой столичные коллективы. Не случайно балетные труппы двух главных театров страны - Большого и Мариинского - влачат сиротское существование: Мариинский - после ухода команды Махара Вазиева и Павла Гершензона, Большой - после бегства Алексея Ратманского (отработав нескольких лет в Москве, он предпочел не решать административные проблемы Большого, а заниматься свободным творчеством в США. Волей-неволей Владимиру Кехману пришлось искать худрука балета за пределами России.
Но и в мире по-настоящему выдающихся хореографов раз, два и обчелся. Да и те, что есть, зачастую неспособны творить в структуре репертуарного театра - большинство грандов современного балета предпочитают работать со своими группами, а не нести ответственность за художественную политику целого театра. У Начо Дуато на этом поприще как раз есть большой опыт: в 1990 году, уже будучи звездой мировой сцены, переработав со всеми ведущими труппами мира и занимая пост хореографа культового килиановского NDT (главного европейского балетного форпоста), он возглавил испанский Национальный театр танца. И за несколько лет сумел превратить этот заштатный провинциальный коллектив в одну из самых востребованных и высокооплачиваемых балетных трупп мира. Владимир Кехман, проявив чутье на конъюнктуру арт-рынка, несомненно, учел этот опыт Дуато, принимая решение о сотрудничестве именно с ним - не только гением-визионером, но еще и блестящим педагогом и организатором.
Резонный вопрос - что подвигло одного из самых востребованных хореографов мира возглавить пусть амбициозную, но пока достаточно мало известную в мире театральную компанию? Самый предсказуемый ответ напрашивается сам собой - Кехман предложил Дуато заоблачный гонорар. Что само по себе вполне вероятно. Но при этом Михайловскому театру помогли специфические обстоятельства карьеры Дуато. В нынешнем году он покидает Национальный театр Испании - отставка, как намекает сам хореограф, вызвана разногласиями как по творческим, так и по финансовым вопросам с испанским Министерством культуры. В Михайловском театре у Дуато будет абсолютный карт-бланш, обеспечить который было бы довольно трудно в известных западных театрах с разработанной на десятилетия вперед художественной программой. Одно дело - встраиваться в уже существующую структуру, совсем другое - создавая ее с нуля, затачивать под себя.

Cцена из спектакля Начо Дуато "Многогранность. Формы Тишины и Пустоты", Национальный театр танца (Мадрид, Испания)
Задача эта Дуато вполне по плечу. Но и проблем хватает. Главная из них - далекое от идеалов профессионализма состояние балетной труппы Михайловского театра. Петербургские танцоры заочно кажутся слабо эффективными в решении тех задач, которые предъявят им труднейшие хореографические тексты Дуато. Другая проблема заключается в том, что руководство Михайловского вовсе не намерено отказываться от своего классического репертуара. И как будут сосуществовать радикальная хореография Дуато и "Лебединое озеро" - большой вопрос. Очевидно одно: Владимир Кехман сделал точнейший кадровый ход, поведя труппу Михайловского по пути переформатирования из классической в неклассическую. Понятно, что на территории классики Михайловскому тяжело тягаться как с Мариинкой, так и с Большим. А вот на поле современной хореографии конкурировать с ближайшими коллегами будет куда сподручнее. К тому же конкуренция может возникнуть не с Мариинским театром, судя по афишам последних лет окончательно сделавшему выбор в пользу возобновлений старого репертуара, а со стремительно обновляющимся Большим, у которого на ближайшие годы заявлены премьеры Прельжокажа, Форсайта, МакГрегора и Килиана.
У Дуато есть время - контракт с Михайловским заключен на пять лет с правом дальнейшего продления. У Дуато есть кадровый ресурс - как было объявлено на пресс-конференции, кроме самого хореографа в Петербург переедет целый штат его репетиторов и зарубежных солистов, которые вольются в труппу Михайловского. Приезд Дуато в Петербург обещает повлечь за собой кардинальное улучшение общегородского балетного климата. Так, в учебный план Академии имени Вагановой планируется внести курс современного балета, вести который будут ассистенты Дуато. Параллельно будут осуществляться инъекции серьезных доз современной хореографии - Сергей Данилян, официальный агент Начо Дуато и один из постоянных партнеров Владимира Кехмана займется организацией на сцене Михайловского ежегодного масштабного фестиваля современной хореографии. Таким образом работа по европеизации петербургского балета будет проводиться Михайловским театром по всем фронтам.
Владимир Кехман давно говорил о том, что в своей деятельности он ориентируется прежде всего на опыт Императорских театров. То есть на золотой век отечественного балета. В последний раз иностранный хореограф возглавлял российскую труппу как раз более ста лет назад - этим варягом был Мариус Петипа. Начо Дуато можно считать его прямым наследником. Как сложится работа Дуато в Михайловском, покажет время. А вот Владимир Кехман свое имя в историю русского театра внес уже сегодня.
Софья Дымова,
"Фонтанка.ру"
Нам удалось попасть за кулисы Михайловского театра, чтобы понаблюдать за подготовкой к премьере "Щелкунчика", которая состоится уже завтра
В Михайловском готовят праздничную премьеру. Хореограф Начо Дуато, уходящий с поста руководителя балетной труппы театра, прощается с Петербургом "Щелкунчиком". Билетов на балет почти не осталось — искушенная публика жаждет увидеть, как же признанный мастер модерна Дуато справился с классической постановкой.

Приобщаться к искусству в максимальном комфорте городу на Неве и его гостям помогают отели «Англетер» и «Астория». У первого есть отдельная ложа в Михайловском, куда могут попасть и гости «Астории». Для тех, кому мало и ложи, появилась возможность побывать на приватной экскурсии за кулисами театра. Справедливости ради, стоит отметить, что это не первый классический опыт знаменитого испанца. Он уже ставил в Михайловском "Спящую красавицу" и "Ромео и Джульетту" (правда, балет на музыку Прокофьева стал, по словам самого Дуато, "расширенной версией" спектакля, который он создал в Испании более 15 лет назад).

Но если к "Спящей красавице" публика изначально относилась несколько настороженно (такими воспоминаниями поделился с Buro 24/ 7 премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов), то к "Щелкунчику" она, кажется, заранее более благосклонна. За считанные дни до выпуска спектакля в театре царит удивительная атмосфера. Часто это горячий период для всех, от худрука до монтировщиков, но в Михайловском сейчас все иначе — там будто готовятся не к важной премьере сезона, а к семейному торжеству.



Нет никакой суеты, лишь предвосхищение большого праздника. За кулисами говорят, что во многом это заслуга Дуато — даже перед премьерой он старается сохранять полное спокойствие. Во время репетиций худрук, управляющий процессом на сцене из зрительного зала, негромко делает сдержанные замечания артистам, вежливо и даже с некоторой нежностью в голосе называя каждого по имени. Однако волнение хореографа все же можно уловить: например, по тому, с какой страстью он пытается донести до дирижера Павла Бубельникова свои мысли по поводу того или иного музыкального куска. Или же по тому, как он тихонько подпевает оркестру; как не удерживается, встает из-за режиссерского пульта и начинает пританцовывать, будто повторяя вместе с солистом его партию; как горячо шепчется с художником Жеромом Капланом…

Каплан внимательно выслушивает все комментарии, кивает и, если нужно, отправляется за кулисы, а затем на сцену — проверять исправность огромного зонтика для "Китайского танца" или впечатляющего своими размерами восхитительного воздушного кекса, часть декорации для "Розового вальса". "Для меня "Щелкунчик" — это даже не сказка, а сон маленькой девочки. Пространство спектакля делится на две большие части — реальность (с которой мы сталкиваемся в самом начале — в доме родителей Маши) и сновидение главной героини", — рассказывает художник.


Лишь частью девичьей фантазии себя ощущает и сам Щелкунчик-Принц Леонид Сарафанов: "Я только часть сна. А все когда-нибудь заканчивается, все фантазии, все хорошее, плохое… И праздник тоже кончается. Люди порой плачут, когда день рождения проходит. В "Щелкунчике" тоже так — все резко обрывается на самом пике. Я помню, в детстве мне снилось, что получил желанную игрушку в подарок. Потом просыпался, а ее нет! Вот об этом наш спектакль. О снах". Основой для "реалистичной" части балета стал ар-нуво, популярный в России начала XX века. Месье Каплан замечает: "По-моему, этот стиль прекрасно сочетается с музыкой Чайковского". А рождественская фантазия Машеньки воплощена с помощью техники "папье декупе" — сделанных из бумаги предметов (и чудесный розовый кекс, и восточный змей напоминают огромные бумажные игрушки).


Каплан работал над "Щелкунчиком" около десяти месяцев, параллельно занимаясь и другими проектами. И за несколько дней до премьеры он лично, вместе с Начо Дуато, доводит спектакль до совершенства: "Начо абсолютно сумасшедший, но мне это нравится. По его мнению, все должно быть безупречно". Еще бы, даже во время интервью хореограф давал какие-то таинственные указания Каплану и повторял: "Ты не забыл? Не забыл?". "Это он про пуговицы к костюму Арлекина", — пояснил Каплан.
Вообще, Дуато, как говорят в театре, пытается контролировать все. Худрук даже лично проверял боеготовность огромного змея — он появляется на сцене во втором акте. Для того, чтобы привести конструкцию в движение, внутри должен быть человек — и первым ее опробовал именно Начо Дуато.

После "Щелкунчика" хореограф отправится в Берлин, где возглавит объединенную труппу государственного балета Staatsballett. Солисты Михайловского Леонид Сарафанов и Оксана Бондарева, которые исполняют в постановке партии Принца и Маши, рассказывают, какую роль в их профессиональной жизни сыграл без пяти минут бывший руководитель балетной части театра.

Сарафанов, который до прихода в Михайловский восемь лет был премьером Мариинки, признается: "Начо изменил мое отношение к профессии — теперь я смотрю на весь балет немножко иначе. Он научил задавать вопросы, в том числе самому себе. Я не знаю, кто он для меня больше — педагог, учитель или хореограф. Он меня раскрепостил, растормошил. Раньше мое тело было заточено только под классический танец, а теперь оно готово к любой хореографии. Иногда говорят: "Ой, станцуешь "Лебединое озеро" - станцуешь и все остальное!". Неправда! Классический балет закрепощает тело так, что ты потом можешь только партию Щелкунчика до превращения в Принца и танцевать…".

Для Оксаны Дуато — почти Дроссельмейер, крестный ее героини в "Щелкунчике". "Он же волшебник. Вот он сидит-сидит, а потом что-то происходит, он загорается и как будто превращается в мага. И все начинает двигаться, почти сказочно. Поэтому Начо и может создавать спектакли за столь короткий период". Про 26-летнюю Оксану в театре говорят, что она истинный трудоголик. Постоянно репетирует. В любом перерыве стоит взглянуть на сцену, и почти наверняка она будет там — повторять рисунок адажио, с наушниками и в толстовке поверх сценического костюма. Но все труды, по ее словам, не напрасны: "Иногда выходим на поклон, и я чувствую теплую волну из зала. Все, что ты отдаешь во время спектакля, возвращается обратно". Ощутить всю обещанную создателями сказочность и легкость нового балета можно совсем скоро — 12, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 29 и 30-го декабря "Щелкунчик" предстанет перед зрителями во всей красе и масштабности.