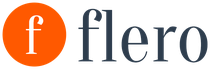Алексей Иванов. Блуда и МУДО: Роман. - СПб.: “Азбука-классика”, 2007.
Сегодня роман Алексея Иванова, вышедший год назад, интересно посмотреть не только сам по себе, но и сквозь призму литературно-критических оценок, которыми его появление сопровождалось1 .
Вот, например, прогноз от Льва Данилкина: “Все говорит о том, что на этот раз в планы Иванова входит беспрецедентное увеличение лояльной аудитории; и пусть за это придется заплатить сменой имиджа и из “краеведа” превратиться в “порнографа” - однако это хит, стопроцентный, беспроигрышный хит”.
Пожалуй, хит все-таки не состоялся. Причем, как это ни парадоксально на первый взгляд, в немалой степени воспрепятствовало “хитизации” неблагозвучно-эпатирующее название. Я знаю людей, которые, будучи горячими поклонникам таланта Иванова, ценителями его историко-географической трилогии - в общем, суперлояльной аудиторией, споткнулись о Блуду и МУДО и не стали читать новый роман из опасения разочароваться в любимом авторе и из предубеждения: про это мы и так знаем. Между прочим, что опять-таки выглядит парадоксально, это хороший знак, свидетельствующий о том, что читатель Иванова - литературный гурман, и его достойная уважения верность Географу вкупе с нежеланием погружаться в блуду (иными словами, принять превращение “краеведа” в “порнографа”) служит дополнительным свидетельством уникального, самобытного качества предыдущих книг. Однако эти похвальные читательские свойства все-таки не являются достаточным основанием для ухода в “непризнанку”, от которой не так уж далеко до пресловутого и, к несчастью, бессмертного: не читал, но осуждаю.
Из размышлений по существу книги процитируем очень характерное недоумение: “Что такое МУДО? Опять же по Иванову, это аббревиатура: муниципальное учреждение дополнительного образования, по-старому - Дом пионеров. Но опять же, откуда слово? Неужели этой аббревиатурой действительно пользуются современные педагоги? Или это тоже авторский конструкт?” (НГ. - Экслибрис ).
Столь же характерна - это практически всеобщий глас - квалификация художественного продукта: сатира. “Роман выдержан в лучших традициях отечественной сатиры, - но с претензией на некую новую картину мира” (Ольга Мариничева, “Учительская газета”).
Однако опять хочется уточнить: точно так же, как в самой что ни на есть рутинной реальности существует в качестве продукта чиновничье-бюрократического словотворчества это самое МУДО, а в обыденной жизни щедро плодятся, пышным цветом расцветают явления, подпадающие под определение мудо , уже отнюдь не аббревиатурного свойства, - точно так же существуют все эти отморозки Ленчики, сутенеры Сергачи, проститутки Аленушки, “друиды”-алкаши, “дерьминаторы”, подростки-уголовники и просто запущенные, недосмотренные родителями и школой дети; ушлые, хваткие, шагающие по головам инноваторы-модернизаторы и не вписавшиеся в рыночные отношения недотепы-“идунбхеры”; наивно-самонадеянные успешные женщины, простодушно или расчетливо ложащиеся под тех, кто обеспечивает путь к искомому успеху, и “неувядающие хризантемы народного образования”, которые охотно включаются в “очередной тур административного кордебалета”, ибо им на пользу любой режим и любая реформа, и т. д. и т. п. Какая же это сатира? Когда “жить приходится в сатире”, одноименное эстетическое явление лишается своей эстетической сути, перестает работать. Сатиры в гоголевско-щедринском смысле - с очевидной нарочитостью, гротеском, с фантастическими смещениями и сгущениями - здесь нет. Это действительность, реальность. Ну, разумеется, художественная, значит, укрупненная и “с претензией” - то бишь концептуализированная. И сдобренная смехом, приправленная юмором, а то бы уж совсем тошнотворной получилась картинка. Так же как мат, по справедливому замечанию Иванова, для весьма многочисленной категории наших сограждан уже не ругательство, а речь, так же достоверно реалистичны все эти лица и ситуации. В общем, специально для тех, кому это кажется сатирой, фраза на anekdot.ru: “Книга ужасов "Путешествие из Москвы в Россию"”. Впрочем, все описанные Ивановым уродства, включая МУДО, разумеется, есть и в Москве, но более нарядный, богатый, многоярусный и пестрый фасад отвлекает в столице от ее же собственной “провинциальной” изнанки; к тому же, как сказано классиком, “легкомысленно-непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком”, а обстановка, оформленная другими атрибутами, - другой обстановкой. А в “заштатном, банальном, алкогольном и наркоманском” уездном городе Ковязине все простодушно обнажено, по-домашнему упрощено, по-семейному обыденно и - страшно. Не только из-за обилия удручающих реалий и обескураживающих лиц. Но и потому, что смех тут не выполняет функции положительного героя, не играет очистительной роли и не сулит грядущих перемен. Смех тут - временная, сиюминутная психологическая защита, противогаз, помогающий двигаться в зараженном пространстве, но не способный его очистить, или указать путь к спасению, или хотя бы посулить это спасение.
Правда, претендент на роль спасителя в романе имеется - это, как определил его Л.Данилкин, “28-летний раздолбай с приапической фамилией” Моржов, в качестве пародийного “бога милосердия и плодородия”, эдакого составного Христа-Приапа, “спустившийся в непристойный мир дешевого порно, чтобы эвакуировать тех, кого можно”. Однако спаситель этот вызывает не меньше опасений, чем те, против кого он воюет, и родственность слов “спасение” - “опасение” в данном случае более чем симптоматична.
Чтобы понять это, необходимо не только проследовать за Моржовым по сексуально-плутовскому маршруту его судьбы, но и вникнуть в его зааббревиатуренную концепцию социально-идеологического мироустройства - “доморощенную философию”, по определению одного из критиков. Между прочим, любая философия в широком смысле слова - доморощенная. И не только потому, что неизбежно отражает систему ценностей и координат, порожденную определенной культурой (“большим домом”), но и потому, что, как указывал Фридрих Ницше, каждая новая философская система есть отражение не столько (по крайней мере - не только) объективного мира, сколько (но и) комплексов, страхов, упований и надежд (то есть внутреннего, “малого дома”) самого философа, который, в отличие от простых смертных, не располагающих научным аппаратом и более или менее искусным слогом, обладает способностью отпугивать одолевающих его темных демонов мощными защитными волнами научных концепций и благостно-утешительных или устращающе-апокалиптических пророчеств. Заметим, что сам Ницше, уличивший философов-предшественников в том, что они лишь “адвокаты”, “пронырливые ходатаи своих предрассудков”, с неизбежностью уподобился им, когда от критики перешел к “положительной программе”.
Чтобы связь между блудливым, “внесистемным” героем современного русского романа и немецким философом, по смерти своей благополучно встроенным в систему, которую он сокрушал, не показалась надуманной, процитируем вступительное рассуждение из книги “По ту сторону добра и зла”:
“Предположив, что истина есть женщина, - как? разве мы не вправе подозревать, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин? что ужасающая серьезность, неуклюжая назойливость, с которой они до сих пор относились к истине, были непригодным и непристойным средством для того, чтобы расположить к себе именно женщину. Да она и не поддалась соблазну - и всякого рода догматика стоит нынче с унылым и печальным видом. Если только она вообще еще стоит! Ибо есть насмешники, утверждающие, что она пала, что вся догматика повержена, даже более того, - что она находится при последнем издыхании”2.
Моржову, который “бабами думал обо всем”, этот иронический пассаж очень подходит в качестве отправной точки его концептуального, по ходу дела понятийно обустраиваемого странствования. Исходные данные самые те: “Язык был родной, край отчий, а быт общий, но порой Моржов казался себе инопланетянином. Все было здесь не по его мерке. Никак не выходило у Моржова ощущать себя мерой всех этих вещей”. Как тут не пуститься на поиски соразмерности, то бишь смысла бытия, - для себя, а заодно уж, разумеется, и для других. Ну, а альфой и омегой этого странствования являются отнюдь не метафорические, как у Ницше, а совершенно реальные женщины, ОБЖ (обмен биологическими жидкостями) с которыми призван компенсировать КВ (кризис вербальности), а упрочение новой полигамной системы социально-половых отношений, зиждущейся на явной и/или скрытой опеке-лидерстве самца (фамильон), должно насытить блуду (неструктурированную материю бытия, социальный и ментальный хаос) осмысленными и целесообразными образованиями (разного рода МУДО) до такой степени, чтобы зло (глупость) не заполонило все жизненное пространство.
В конкретном воплощении и в ближайшей перспективе это выглядело так: “найти равнодействующую для успешной женщины Милены Чунжиной, для озабоченной замужеством Розки Идрисовой и для совершенно невнятной Сонечки Опенкиной. Это все равно что впотьмах запрячь трех кобыл так, чтобы всеми ими управлять с помощью единого комплекта вожжей”. Цель - “покрыть весь табун”. При этом “кобылы” совершенно не должны понимать происходящее. “Но почему всегда приходится обманывать человека, чтобы сделать ему же лучше?” - не без лукавства сокрушается Моржов, думая свои “циничные мысли” и попутно с поступательным движением к главным призам простирая “фамильонные” щупальца на проститутку Аленушку и на бывших любовниц, ныне интересующих его преимущественно в качестве обладательниц вожделенных сертификатов, необходимых для имитации полнокровной деятельности летнего лагеря в Троельге и спасения МУДО.
Надо сказать, что роман получился брутальный, фонтанирующий мужским шовинизмом. “Девки у нас качественные, - говорит моржовский дружок и единомышленник Щекин, - а Сонечка лучше всех. Глупенькая-глупенькая - аж фляга свистит. И ни бе, ни ме, ни кукареку. Чудо!” Большего от “девок” и не требуется, большее им в лучшем случае прощают, как детскую причуду или врожденное уродство: в свое время Моржов “и женился-то на теле, пренебрегая чириканьем души где-то там наверху”, теперь он снисходительно пропускает мимо ушей “чириканье” Милены и Розки на разные темы, абсолютно не полагаясь на их способность что бы то ни было всерьез понять, сформулировать и уж тем более сделать. Он готов их опекать, оберегать, спасать (чтобы потом “употребить”, а “употребив” и насытившись, “передарить” другому) - но “испрашивать дозволения у бестолковых баб он не находил нужным”. Примечательно, что его мужская “благотворительность” не распространяется на бывшую жену Дианку, которая его “не просто любит, а живет им”, - ей нет места в выстраиваемом фамильоне, так как к ее телу он интерес потерял, а душа его никогда не интересовала. Многочисленные встречи и ретроспективно данные истории отношений с состоявшимися и несостоявшимися любовницами разнообразия в “атавистически самцовую” стратегию Моржова не вносят и, пожалуй, могли бы быть изложены более лаконично, что придало бы больший динамизм развитию сюжета.
“Обламывает” Моржова, нанося весьма чувствительный удар по его самолюбию, юная проститутка Аленушка, которая на основании очевидных для нее несоответствий героя стандарту (“речь”, “очки”, “время съема”, “количество бабок”, “клиент-одиночка”) не признает в нем “клиента”, то есть “нормального” мужика. Однако, не получив удовлетворения физического, Моржов получает импульс к созданию самой интересной, стержневой своей идеи, которая не просто по-новому фиксирует некую общеизвестную данность, но на сей раз выводит эту данность из онтологической тени, где она как правило пребывает, чтобы в размышлениях Моржова и на его собственном примере продемонстрировать ее действенность, универсальность и нарастающую опасность. Речь идет об идее “пиксельного мышления”, которую Моржов по своему обыкновению зааббревиатурил: ПМ - “механическое сложение картины мира из кусочков элементарного смысла”. Так сложила свое представление о Моржове Аленушка. Так, по мысли Моржова, видит мир “англичанка” Милена, вообразившая себя успешной женщиной, в то время как успех ее обусловлен не весьма сомнительными профессиональными достоинствами, а теми же самыми качествами, которые обеспечивают куском хлеба с маслом проститутку Аленушку; так экспансивная и прямолинейная Розка объясняет все свои неприятности: “во всем виновата Шкиляева”; так государственный чиновник Манжетов укладывает в триаду “оптимизация”, “инновация”, “модернизация”, под которой скрывается его своекорыстный интерес, не только реформу образования, но и судьбы причастных процессу образования людей; так “страж законности” и по совместительству сутенер Сергач все и вся ужимает до зоологического: “ну и мудно же, а?”
Однако в защиту убогих сих уточним: слово “пиксель”, конечно, новое и очень точно фиксирующее явление, но описанный Ивановым способ мышления - старый, как мир. Любая формализованная система координат есть неизбежное упрощение и уплощение отраженных в ней реалий. Как поясняет сам писатель, “пиксели - это всего лишь форма организации мышления, а не его содержание. В пиксель можно превратить и очень умную мысль, и давно захватанную банальность”. К тому же “максимум упрощения при минимуме объема знака” - это один из вполне резонных, рациональных путей познания. При одном существенном условии: если он себя сам таковым сознает, если ему сопутствует самоанализ, самокритика и периодический пересмотр полученных результатов. Однако условие это часто не соблюдается не только на “нижнем”, бытовом, уровне, но и на уровне “высоком” - научном, политико-идеологическом, где количество пикселей неизмеримо возрастает, а качество мышления нередко то же, что и у Аленушки, и лозунгово-терминологическая (пиксельная) эквилибристика создает прочную дымовую завесу, в которой бесследно растворяется суть вещей. Сошлемся еще раз на уже цитированного Ницше. Иронизируя по поводу открытой Кантом и тут же возведенной в абсолют способности человека к синтетическим суждениям a priori , Ницше показывает, как происходит процесс пикселизации в науке: “Эта новая способность сделалась даже причиной чрезвычайного возбуждения, и ликование достигло своего апогея, когда Кант вдобавок открыл в человеке еще и моральную способность, ибо тогда немцы были еще моральны, а не “реально-политичны”. - Настал медовый месяц немецкой философии; все молодые богословы школы Тюбингена тотчас же удалились в кусты, - все искали новых “способностей”. И чего только не находили в ту невинную, богатую, еще юношескую пору германского духа, которую вдохновляла злая фея романтизма, в то время когда еще не умели различать понятий “обрести” и “изобрести”!”3
Молодые богословы, удалившиеся “в кусты” с целью обнаружить и описать не наличное, реально существующее, а искомое (то есть не “обрести”, а “изобрести”), могли найти только то, что искали. Как уже говорилось, на каком-то этапе научного поиска или обучения такой подход может быть плодотворен (пример - ЕГЭ как один из способов проверки знаний по подходящим для этого дисциплинам), но если отсечение “лишнего” производится некорректно, из спекулятивных соображений или по невежеству, оно может оказаться не просто опасным, но смертельно опасным, ибо пущенное на самотек, абсолютизированное ПМ “рубит, как гильотина”, отсекая все, что не укладывается в заданную картинку. В современном, стянутом в единое целое мире как никогда ранее возрастает опасность глобальной пикселизации и как никогда ранее важно равновесие между неизбежным и необходимым ПМ (в конце концов оно источник и носитель тех знаковых систем, без которых люди просто перестанут понимать друг друга) и ТМ - творческим мышлением, которое способно ломать стереотипы, находить неожиданные решения и в конечном счете держать человечество на плаву. В противном случае, если опять-таки воспользоваться терминологией Моржова, весь порядок жизни грозит превратиться “в сплошную блуду”.
Беда, однако, в том, что сам этот “доморощенный философ” делиться своими открытиями и обсуждать их с подопечными не намерен, ибо “с собственной ответственностью за кого-нибудь жить ему было проще, чем тревожиться за риски чужой самостоятельности”, и таким образом он с неизбежностью вступает все на ту же гибельную пиксельную тропу. Моржов не только субъект идеи ПМ, но и субъект самого ПМ, в чем вольно и невольно постоянно признается. Затеявший “сделать лучше для всех и получить свое <…> тихой сапой, никого не посвящая в смысл своих действий”, он, как водится в таких случаях, презирает и не принимает в расчет “маленьких людей с их ломкими скелетиками и хрупкими стеклянными принципами”. Вообще других он измеряет исключительно собственными о них представлениями: “Моржов еще по Стеле понял, что женщин ловят на комфорт”; “Перед Сонечкой нечего выпендриваться; надо просто брать ее за булку, и все”; “Лучшее, что можно сделать для Милены, - это не денег ей дать, а обмануть ее. Включить ее в круг ОБЖ” - что это, как не типичные пиксели, венчающиеся саморазоблачительным признанием: “Он не представлял, как растить детей такими, какими они должны быть. Он мог бы только штамповать из них новых Моржовых”. Этому ковязинскому супермену “до полного охренения надоели все идиоты скопом” - и как не разделить его праведный гнев, но беда в том, что у каждого из нас свой список идиотов и свои представления об идиотизме. Вопрос в том, как из совмещения частных данных получить общий знаменатель, в котором окажутся идиоты, социально и онтологически опасные и потому подлежащие если не уничтожению, то обезвреживанию. Однако Моржов такими вопросами не заморачивается. Он, по всем правилам пиксельного мышления, выстроил картинку взаимоотношений, которую дожимает до нужного ему состояния спецусилиями и спецэффектами, чтобы в решающий момент взорвать ее своим “благородным” вмешательством. К тому же он вооружен не только теоретически, но и практически: “голливудством” (“Благодаря Голливуду технику ограбления кафе Моржов знал куда лучше, чем, к примеру, правила поведения на пожаре”) и пистолетом, попавшим к нему через ублюдка Ленчика от “мудноватого” мента Сергача. И время от времени заглатываемая героем виагра здесь очень кстати: он искусственно подогревает себя, раскочегаривает, превращается в ковязинского Джеймса Бонда, в пародию на пародию. Он и сам про себя это знает: “Я же весь картонный. На подпорках. Для социума у меня кодировка от алкоголизма, а для друзей - пластиковая карточка. Для врагов - пистолет, для баб - виагра. Сам по себе я ничто”.
Аленушка погибла. И виновником ее гибели является Моржов, ибо именно он - режиссер спектакля, в котором его антагонистами Манжетовым, Ленчиком и Сергачом несчастной девочке была отведена роль вещественного доказательства моржовской порочности.
Ленчика, бросившего беспомощную Аленушку умирать на месте аварии, Моржов убил - сбросил с колокольни-кочегарки, инсценировав самоубийство.
Манжетова и Сергача пощадил, потому что “оба они все-таки любили девок”.
Ненасытная и неуемная Розка потухла, оцепенела в ожидании исчезнувшего Моржова.
Милена вернулась под Манжетова.
Сонечка осталась со Щекиным, который ради нее бросил жену.
Манжетов сохранил свое начальственное положение, но вожделенный Антикризисный центр для перекачки государственных средств в собственный карман на месте МУДО создать не смог.
“МУДО, подобно побитой посуде, живущей два века, продолжило свое безуспешное процветание под бодрым руководством Шкиляевой, неувядающей хризантемы народного образования”. Во всяком случае, краевед Костерыч, “космонавт” Щекин и “девки” не потеряли возможность получать “зарплату некрупных насекомых”.
Сам Моржов исчез.
Щекин убежден: “Моржов все сделал правильно. По-свински, конечно, но правильно”.
Этот вывод, почти единодушно подхваченный критикой, в самом романе готовится загодя, в разговорах с “упырями” - детьми в количестве шести человек, прожившими в лагере Троельга смену, за время которой, вокруг которой и разыгралась вся эта недетская история.
“Жизнь вообще несправедливая”, - объяснял упырям Щекин про настоящего человека. - “Но настоящий - это тот, кто живет правильно и в несправедливой жизни”; “И он может поступить даже неправильно, если другим от этого по-настоящему станет лучше”. Следующий логический шажок сам собой разумеется: в таком случае неправильное становится правильным, ибо цель оправдывает средства…
А вот для Аленушки “настоящим”, “правильным” человеком был Ленчик. Моржов, справедливо полагавший, что Ленчик - подонок, Аленушкино представление квалифицирует как пиксель. И, руководствуясь собственными пикселями, вершит суд и расправу. Но Аленушку этим не воскресить.
В свое время Печорин сокрушался о том, что, забросив его в круг “честных контрабандистов”, судьба сыграла злую шутку и с ними, и с ним самим, - герой нашего времени Моржов ни о чем не сокрушается, он непоколебимо уверен в своей правоте. “Довольно людей кормили сластями”, - может сказать вслед за Лермонтовым Алексей Иванов. Да, “Блуда и МУДО” - горькая пилюля, но горечь здесь не только просчитанного автором, но и, похоже, неожиданного для него, не предусмотренного им свойства: удар, нанесенный по системе тотального цинизма, лицемерия, глупости и пошлости, удар по моржовским врагам, каковые несомненно являются врагами всякого настоящего человека, сокрушил и самого Моржова, оказавшегося ничуть не лучше, а может быть, и страшнее тех, против кого воюет, ибо, в отличие от большинства из них, он - ведает, что творит.
Финальный призыв к исчезнувшему герою вернуться, найтись - безошибочный эмоциональный ход и жестокая обманка: не надо ему возвращаться, он ничего не может исправить, он может только сыграть роль пускового механизма очередной жизненной драмы.
Как сказано в самом романе, “пускай лучше все остается по-старому: шатко-валко, сикось-накось, потихоньку-полегоньку”. Чтобы “сидеть и просто так, без трепа, ожидать судьбы: неведомо чего из ниоткуда”. Пусть это выглядит так: “Из-под угла отчаянно топорщился куст - словно завопил от боли, когда его прищемило зданием. Во всей этой фактуре была такая энергетика, такая прочность временного, нелепого, халтурного и случайного…”. И пусть распрямляется в ночи трава, а днем нехотя плывут облака - “такие лохматые, словно солнце нарвало их на берегу, как одуванчики”. И пусть этот нелепый Ковязин долепливается, дополняется смыслом за счет окружающего природного мира, который обеспечивает ему непиксельную глубину: “Городишко лежал на дне долины разводьями зеленой пены, а вокруг него прямоугольными заплатами были наляпаны темные поля. Вдали, куда уже не дотягивались корни проселочных дорог, поля замшели лесами. Небо перекрывало весь объем без единой подпорки да еще развесило люстры облаков”.
А там, глядишь, может быть, вернется Географ?
В отличие от Моржова, который не желал “тревожиться за риски чужой самостоятельности” и предпочитал все делать “тихой сапой”, Географ понимал: “научить ничему нельзя. Можно стать примером, и тогда те, кому надо, научатся сами, подражая. <…> А можно поставить в такие условия, где и без пояснения будет ясно, как чего делать”. Моржов затеял спасение утопающих без ведома и согласия утопающих. Географ тоже обещал спасти, но по-другому: “Конечно, я откачаю, если кто утонет, но вот захлебываться он будет по-настоящему”.
Как художник, автор “пластин”, которые были в некотором роде “антииконами”, Моржов “не хотел никакого смысла. Только поверхность. Только поверхность. Глубины не надо. В глубине и больно, и стыдно - и непристойно”. Разумеется, непристойно - с точки зрения тех, кому чужда и враждебна глубина. Кому недоступен объем и внятен лишь пиксель. Кто правильно подозревает в глубине подвох. Кто боится нырнуть, потому что не способен вынырнуть. Кто готов заасфальтировать все глубины и даже выемки, чтобы создать тотально контролируемую и управляемую поверхность.
В отличие от Моржова, который силой удерживал своих подопечных на чахлой жизненной поверхности, Географ увлекал в глубину. Там, конечно, можно захлебнуться. Но - лучше захлебываться жизнью, чем получать ее в виде дозированного дистиллированного пойла из чужих рук. Тем более что у этого пойла рано или поздно появляется привкус крови.
Между прочим, и это тоже весьма показательно, талант Моржова-художника не показан, а продекларирован, а талант географа Служкина не только убедительно предъявлен в его собственном романе, но и задал художественную интенцию двух следующих романов Иванова.
В историко-географической трилогии “Географ глобус пропил”, “Чердынь - княгиня гор, или Сердце пармы”, “Золото бунта” Алексей Иванов создал образ-проект национального возрождения - идеалистический, конечно, проект, но обозначивший вполне реалистический вектор движения к осмысленному бытию.
В современном плутовском романе “Блуда и МУДО” Алексей Иванов описал Дешевое Порно (ДП), воцарившееся на отечественном историко-географическом пространстве, и - что, может быть, еще важнее - показал опаснейшую социальную тенденцию, при которой остро востребованный, ожидаемый, желанный герой-спаситель оказывается способен только на то, чтобы посредством заемного голливудства с примесью доморощенной уголовной лихости и, главное, ценой человеческой жизни всего лишь сохранить в целости и неизменности это многозначно-многозначительное МУДО, где в интервалах между периодическими реформаторскими судорогами как ни в чем не бывало продолжается “долбежка друг друга за небольшие деньги, но с удовольствием, к тому же без любви, без артистизма и даже без декораций”.
Замена Географа “порнографом” представляется не только вопросом выбора художественной стратегии и рейтинга продаж, но и вопросом жизни страны, тем более что, как сказано в последнем романе Иванова, “вероятность того или иного события” предопределена “стилистикой события, а не причинно-следственными связями”, так что “художественное восприятие мира” может оказаться “куда более точным орудием прогноза, чем логика предшествующих событий”. Признаться, очень хотелось бы, чтобы на сей раз художник в прогнозе ошибся. Или это уже не прогноз, а диагноз?
1 См. соответствующие материалы на: http://www.arkada-ivanov.ru/ru/books_reviews/BludaiMUDO
2 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Собр. Соч. в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 239.
3 Ницше. Ф. Указ. изд. С. 248.
© Осипов И.В.
© ООО «Издательство ACT», 2015
Никто не знал, а я…
Объяснительная записка Вячеслава Бакулина
Как и все, иногда я мечтаю быть героем. Точнее, нет, не так. Быть – это неинтересно. Скучно даже как-то. Как в том анекдоте, где глупый старик с неводом попросил у золотой рыбки, чтоб у него все было. И мудрая рыбка ответила: хорошо, дескать, старче, у тебя все БЫЛО. Так и с героизмом. Ведь самое-пресамое в этом деле: 1) процесс свершения подвига аль еще какого славного деяния; 2) то, что происходит сразу (ну, пусть не сразу, а немного погодя) после свершения. Цветы и овации, поцелуи и объятия, крики «Браво!» и восторженные девушки, бросающие в воздух чепчики и прочие детали туалета. Награды, опять же, известность, солидная прибавка на банковский счет, почет и преклонение народных масс. Родители скромно говорят с сияющими глазами в направленные на них камеры новостных каналов: «Он у меня с детства такой!» (вариант: «Ума не приложу, как мы сумели воспитать ГЕРОЯ?»), супруга и доча в миллионный раз охотно подтверждают, мол, да, родственники, и совершенно даже не случайно, а одноклассники, одногруппники, коллеги по работе и просто знакомые только и говорят, что обо мне. И все счастливы от того, что, ничего особенно не делая, приобщились к чему-то ослепительному. Необыкновенному. Из ряда вон. Как будто в моем подвиге и от них есть хоть самую малость. Ну не красота ли?
Уверен, что вы, мой дорогой читатель «Вселенной», независимо от пола, возраста и места проживания, хоть раз да оказывались в плену таких же грез. А если и не таких точно, то схожих, расходящихся лишь в мелких деталях. Один, скажем, видит себя бесстрашным борцом с терроризмом, другой – создателем лекарства от рака, третий – изобретателем универсального топлива… Награда, опять же, многократно варьируется. Суть-то ведь не в этом, верно?
И вот мы все мечтаем, мечтаем, мечтаем.
Изредка или постоянно.
Мы – мечтаем. Другие – делают. Некоторые даже – изо дня в день. Пусть мерзавцы каждый день безнаказанно убивают невинных, лекарства от рака до сих пор нет, а про универсальное топливо мы читаем исключительно в фантастических романах, – делают, поверьте. Помогают. Спасают. Защищают. Двигают вперед науку. Потрясают умы и души произведениями искусства. Делают, хотя перспективы победы порой более чем сомнительны, а в случае проигрыша часто можно заплатить репутацией, карьерой, здоровьем или жизнью. Потому, что такова их работа. Потому, что они могут это сделать. А чаще даже – не могут НЕ сделать.
Иногда, когда я задумываюсь об этом, мне становится совестно.
Так что в следующий раз, когда в ваших ушах отзвенят виртуальные фанфары, и вы вернетесь из сладкого плена фантазий обратно к своей – такой обычной – жизни, пожалуйста, оглянитесь по сторонам. Бог с ним, с подвигом! Не откажите просящему о помощи. Поддержите словом и делом тех, кто на вас надеется. Не струсьте и не смолчите, даже если так проще и безопасней – а так проще и безопасней, спору нет. Сделайте даже самое рутинное дело по-настоящему хорошо. Особенно, если дело это пойдет на пользу не только вам.
Мудрые китайцы не зря говорили, что дорога в тысячу ли начинается с одного шага. Хотите, чтобы мир стал лучше? Тогда забудьте навсегда фразу: «Да что я могу? От меня все равно ничего не зависит». И может быть, однажды вы действительно услышите свои фанфары.
Пролог
Я дома
Он ехал в маршрутном автобусе, не отводя взгляда от полей и перелесков, мелькавших за окном. Блудный сын… Сколько же прошло времени с тех пор, как он, молодым лысеньким новобранцем, в гурьбе таких же, направлялся на прохождение срочной службы? Пятнадцать?… Да какой там!.. Уже девятнадцать лет прошло. Он ужаснулся скорости течения времени. А как вчера все было! Хотя, если оглянуться, сколько всего после этого «вчера» произошло – на две жизни хватит. Он давно уже не тот бритый юнец в мешковато висящей форме.
Какой-то пожилой мужчина, сидящий напротив, внимательно разглядывал его, но, наткнувшись на колючий взгляд, непроизвольно отвел глаза. Да, мало кто выдерживал его взгляд. Иногда ему доводилось одним этим взглядом вгонять своего противника в ступор или в паническое бегство, а то и откинуть от себя. Так их учили, и он овладел этим искусством в совершенстве, потому что те, кто не научился, уже давно под землей парят кости… Если было, кому их похоронить.
Автобус проехал мост через небольшую речушку, и на горке появился белый указатель – «Духовщина».
– Ну, вот я и дома, – сказал он вслух. Правда, дом – это там, где тебя ждут. А его никто не ждал. Мать умерла еще лет десять назад, когда он жарился где-то в Центральной Африке, выясняя отношения с умниками из бактериологических лабораторий, и узнал о случившемся только через полгода, а сестра выскочила замуж и укатила в областной центр. Узнает ли она своего непутевого младшего братишку?
Автобус остановился на автовокзале. Какое громкое название для одноэтажного домика, похожего на избушку на курьих ножках, сбежавшую от Бабы-яги на подработку в город, к людям. В его городе все небольшое. Только железнодорожный вокзал отличался – не было его отродясь в этом городе. Огромный пустырь на месте, отведенном под его запланированное, но отмененное, строительство. Это, пожалуй, единственное что-то большое в маленьком городке. Не рентабельно, говорили, тянуть сюда ветку. Да и трудно назвать городом место, в котором проживает всего-то полторы тысячи человек. А вот ведь, расщедрилась когда-то императрица Екатерина и сделала подарок своему возлюбленному. Негоже, чтобы первый фаворит императрицы князь Потемкин в деревне родился. Город! Мужчина ухмыльнулся посетившей его мысли. Он все равно любил свою Родину. Этот маленький городок с красивым и звучным названием Духовщина. Куда бы ни закидывала майора судьба, как бы ему не было плохо – он знал, что когда-нибудь вернется домой: в свой маленький городок, в небольшую бревенчатую хату возле чистого пруда, где полно уток и гогочущих гусей. Он был в этом уверен. Может, только эта уверенность, если разобраться, его и спасала. Не поворачивается язык называть свою работу войной. Задания – так они и называли свои командировки, поскольку направлены они были именно на то, чтобы не допустить эту самую войну. Майор, специалист по выживанию, вооружению и рукопашному бою, позывной «Леший» – только теперь все с добавкой: в отставке. В отставке для командования, но не для себя.
Закинув сумку на плечо, тренированным в длительных переходах шагом, он направился по привычной, выученной еще в детстве, дорожке. Никто не узнавал в статном поджаром мужчине с мускулистой атлетической фигурой того сорванца, от которого стонали учителя и соседи. Хотя нет… вон тетка Маня, соседка, у которой он воровал в детстве огурцы, наливает воду из колонки. Загляделась на прохожего, да и забыла, что ведро-то уже полное – льется через край.
– Здравствуйте, тетя Маня, – мужчина перекинул увесистую сумку на другое плечо и слегка поклонился женщине.
– Лёшка, ты, што ль? – женщина слеповато прищурилась, разглядывая собеседника.
– Я, теть Мань, я.
Он, конечно, понимал, что от того Лёшки, которого она помнила, уже ничего не осталось. И будь зрение у нее чуть получше, вряд ли она его бы узнала.
– Ой, радость-то какая! А мамка-то твоя не дожила. Померла, горемычная, подруга моя! – запричитала старая женщина. – А Лизка-то мне ключи оставила, как знала. Пойдем, я тебе хату открою, – забыв про воду, тетя Маня посеменила в дом, продолжая причитать. – А мы вот с Егоркой живем. Внучека прислали мне на каникулы. Такой пострелец, прямо как ты в детстве.
Легко подняв полное ведро, мужчина направился за соседкой. «Да, постарела тетя Маня, а какая статная и красивая была. Мужики рядом с ней просто млели. Куда что делось? Хата ее только не изменилась. Хотя нет – постарела вместе с хозяйкой: веранда покосилась, кровля на ладан дышит (надо бы подправить), да глазастый паренек лет семи уставился с любопытством на незнакомца».
Алексей взял у женщины ключи и зашел в соседний двор, пообещав, что вечером придет порассказать, как жил, где был.
Вот где время остановилось. Ничего не изменилось. Он помнил тут каждую дощечку и гвоздик. Детская память самая цепкая. Открыв ключом массивный навесной замок, с осторожностью вошел в дом, но засмотрелся и стукнулся головой о косяк. «Да-а. Родные пенаты не изменились, а он слегка подрос». Улыбнувшись, майор бросил сумку на пороге.
– Ну вот, теперь я точно дома, – он огляделся, и устало сел стул. Раньше Алексей никогда не чувствовал себя таким уставшим. Словно все то, что накопилось в нем за эти девятнадцать лет, разом навалилось, придавив могучее тело.
В памяти всплывали эпизоды из его беззаботного детства: всегда строгая и деловитая сестра, казавшаяся тогда ужасно взрослой, мама – добрая и справедливая. Наверное, дом, признав своего заблудившегося где-то хозяина, радостно напоминал таким способом о себе: «Вспомни, хозяин: ты тут жил, рос – я очень рад тебе».
Он не заметил, как в думках и воспоминаниях пролетело время. Из этого состояния его вывела тетка Маня. Она стояла на пороге, вся растрепанная и взволнованная.
– Да, теть Мань, сейчас подойду, задумался я что-то, – Алексей привстал, но заметил, что соседка как-то не в себе.
– Лёшенька, по телевизору сказали, что война сейчас начнется. Повторили много раз, а потом все выключилось. И света нет.
Майор пощелкал выключателем. Да, электричества действительно не было.
– А что точно сказали? И кто?
– Штаб гражданской обороны. Сказали, что это не учебная тревога. И что-то про радиационное заражение, – женщина с трудом произнесла незнакомое ей словосочетание. – И что укрыться надо.
– Теть Мань, сидите дома, я схожу в райисполком или что там у вас сейчас… мэрию, и все разузнаю. Может это учения какие, не заходитесь так.
– Как же, сказали ведь, что не учения… – соседка собралась уже пустить слезу.
– Всё, отставить сопли! – строгий командный голос привел женщину в чувство. – Сказал же, все разузнаю. Идите к Егорке и ждите меня.
Возле мэрии, рядом с памятником знаменитому земляку князю Потемкину, собралась уже приличная толпа. Народ галдел, обмениваясь услышанной, а скорее надуманной информацией.
– Да атомная станция рванула. Наша, Смоленская. Помните, как в Чернобыле? Вот и наша так. Потому и объявили.
– Да, ты чё? До нее километров двести! А свет-то тогда чего вырубился? Учения это!
– Вот поэтому и вырубился, что электростанция.
– Балаболка ты, Трофим. Услышал звон… Не все так просто. Связи ведь тоже никакой нет. Вон, мэр выходил – нет, говорит, связи.
Услышанное все меньше и меньше нравилось Алексею. Все его нутро протестовало, а опыт, раскладывая информацию по полочкам, уже давно подсказал ему правильный ответ, и этот вывод ему очень не нравился.
С окраины города, там, где дорога, извиваясь серой асфальтовый лентой, бежала в сторону областного центра, на огромной скорости несся полицейский «бобик». Резко затормозив перед самой толпой, он остановился, как вкопанный, подняв клубы пыли. Из машины выскочил молодой сержант и безумным, ничего не видящим вокруг себя взглядом окинул присутствующих.
– Взрыв… «Гриб» над Смоленском. Я сам видел с холма в Савино…
– Какой гриб? Ты толком расскажи…
– Он там что, грибы собирал? – Народ роптал, требуя объяснений.
Алексей развернулся и быстрым шагом пошел назад. Надо взять документы – и обратно в мэрию. Все стало понятно. Не зря судьба распорядилась так, чтобы он оказался здесь. И это хорошо, что он дома. Надо очень много успеть сделать, чтобы выжить. Ведь выживать – это его профессия. Он выживет сам и научит этому своих земляков. А все вместе они – сила. Теперь он не сомневался, что его маленькая Духовщина – настоящий город.
Часть первая
Угроза
Глава 1
Жизнь или смерть
Максимыч опять бежал в лазарет. Он взял это за правило – как только появлялась свободная минутка, найти его можно было только там. И тянул его не родной дом, это желание возникло только тогда, как Ирину принесли в бессознательном состоянии и уложили на ту же кровать, на которой еще недавно лежала Алина. Он не мог понять: вроде такая же перебинтованная голова и то же бледное лицо на подушке, но, если с Алиной он искал повода, чтобы отсрочить разговор, и придумывал себе дела, то Ирина притягивала, как магнит. Латышев, посмотрев на вяло ковыряющегося в оружии Максимыча, безнадежно махнул рукой и чуть ли не вытолкал его из оружейки, пробурчав под нос: «Сам дочищу, иди домой».
Максим, благодарно взглянув на мудрого, все понимающего гуру, отложил на верстак полуразобранную «ксюху» и, даже забыв вытереть руки ветошью, «улетел» в сторону лазарета.
В приемной его встретила мать. Укоризненно посмотрев на грязные, в оружейном масле руки сына, она, молча, указала на умывальник. Максим, зная пунктик матери на этот счет, беспрекословно повиновался. Прошли те времена, когда он отшучивался в стиле: больше грязи – толще морда. Теперь он прекрасно понимал, что если зоркий глаз родительницы рассмотрит хоть одного неучтенного микроба, в палату Иры его никто не впустит, а это было бы, в его понимании, суровое наказание.
– Как она? – намыливая руки куском свежесваренного хозяйственного мыла, он, даже не оборачиваясь, почувствовал, как мать пожала плечами.
– Так же… Неделю уже… Показатели хорошие, но из комы не выходит. С ней сейчас Алина. Пойдешь?…
– Конечно. – Максим вытер руки грубым вафельным полотенцем.
– Халат надень, – она протянула ему бесформенное белое нечто.
Набросив халат на плечи, Максим осторожно заглянул в палату. Ирина лежала на той же кровати, на которой всего неделю назад была ее сестра. Лицо ее было так же бледно, только повязка, толстым слоем намотанная на голове, перекрывала правый глаз, а вместо загипсованной руки, что была у Алины, из-под одеяла высовывалась уложенная на шине нога. От колена к блоку тянулись стальные струны, на которых был подвешен груз – несколько чугунных гирек.
Опасливо обойдя сложную конструкцию, Максим подошел к Алине. Сестра сидела возле кровати и гладила Ирину по безвольно лежащей поверх одеяла руке.
* * *
Полной темноты не было. Мозг, отключив все внешние раздражители, чтобы организм изыскал резервы на восстановление, услужливо оставил «аварийную подсветку», а то, наверное, Ира сошла бы с ума, так и не придя в себя. «Странное и страшное ощущение – сидеть сознанием в коробке своего черепа. Мыслить, но быть без сознания. Есть в этом что-то противоестественное… Как это – быть без сознания, но осознавать себя? Совсем запуталась, пробуя разобраться в своих ощущениях».
Ира почему-то догадывалась, что вокруг много людей, хотя бронебойные стенки ее темницы не пропускали никакой информации. Очень хотелось выбраться из тесной клетки туда, где люди, свет и, черт с нею, боль. Или же вырваться только сознанием из своей тюрьмы, и даже мысль, что это означает умереть – не пугала. Что бы это не означало, хуже, чем сидеть запертой самой в себе, уже ничего нет.
«Аварийная подсветка» переливалась всеми цветами радуги перед внутренним взором, но это почему-то создавало еще большую скованность. Будто мягкие веревки ласково опутывали мозг, съедая даже минимальную свободу мысли, завораживая, вгоняя в транс. От разноцветной карусели уже кружится голова. Сама мысль от кружащейся головы в голове развеселила, и стало легче. Алинка бы уже реготала, как заведенная. Этой хватит одного указательного пальца, чтобы было веселья на целый вечер. Алинка…
Сколько Ира себя помнила – она всегда была рядом с ней. Память, в то время, когда кроме памяти ничего вокруг нет, – странная штука. Ира помнила все… абсолютно все, до самых, казалось бы, незначительных мелочей. И даже то, чего помнить, по идее, просто не могла.
Первое осознание себя было в утробе матери! И уже тогда рядом была она, ее сестренка. Прикосновение ее маленькой ручки вселяло уверенность: «Не бойся, я рядом с тобой, ты не одна, мы вместе». Три сердца бились в успокаивающем ритме – свое собственное, колотящееся в ритме бегущей лошади, такое же у копошащейся рядом сестры и редкие удары сердца матери. Уверенные сильные звуки. Это первая колыбельная ее жизни. А сейчас она одна. Всегда ненавидела одиночество. Так одна Ирина никогда не была – не слышно даже собственного сердцебиения. Мозг надежно и заботливо укутан в вату безмолвия. Это изощренная пытка. Ее индивидуальная пытка, подобранная с изысканным садизмом. Как будто кто-то назойливо и педантично покопался в ее голове, прикидывая каждую, как платьишко к извилинам, и, выбрав самое страшное… самое непереносимое… то, что она больше всего боялась, с улыбкой Гуимплена вручил: «На, наслаждайся».
Ирина билась о стенки своей темницы, словно птичка в клетке, но преграда мягко отталкивала ее, указывая сознанию свое место. Ничего не оставалось, кроме как вернуться в прошлое. Картинки жизни замелькали, точно в сошедшем с ума калейдоскопе. Девушка с интересом пыталась рассмотреть их и заметила, что как только она улавливала то, что они показывают, бесконечная карусель замедлялась, услужливо предоставляя возможность рассмотреть этот отрезок ее жизни во всех подробностях.
Яркое солнце светит на улице, только что прошел дождь и две маленьких девочки, одинаковые, как две капельки воды, держась за ручки, топают сандаликами по темному, влажному асфальту. Кругом много людей, которые с улыбкой обходят Иринку и Алинку, а сзади идет их мама: молодая, красивая, живая. Она с нежностью смотрит на своих девочек.
А вот они сидят, прижимаясь к маме в пыльном, душном помещении. Комната забита людьми. Мелькают красные лампочки. Где-то наверху что-то грохочет, словно ворочается страшный дракон. С потолка сыплется штукатурка. Очень страшно! Алинка плачет, а Иринка только сильнее прижимается к боку мамы и смотрит, как напротив них жмется к своей маме маленький мальчик, вздрагивая при каждом новом грохоте наверху.
Ей казалось, что она практически не помнила ничего из того периода своей жизни, поэтому с интересом вновь переживала его… испытывая заново пережитое, но оценивала уже по-другому. Правда, какие бы страхи она не пережила, что бы не испытывали взрослые – детство и у нее, и у сестры, да и у всех детей, которые волей судьбы оказались в убежищах, было счастливое. Дети не голодали, все взрослые старались баловать их принесенными с поверхности или сделанными своими руками игрушками. Ведь у многих там, наверху, остались их собственные дети и внуки. И в случайно появившихся в этом странном, совершенно не приспособленном для них мире, девчонках и мальчишках они видели своих, навсегда потерянных родных.
А когда Иринка и Алинка подросли, их мама организовала для всех выживших детей школу. Небольшим был тот класс, постоянно уменьшающийся, словно таящая на солнце льдинка. Грустно было на это смотреть снова, вспоминать лица угасающих от различных болезней друзей, поэтому все картинки детства девушка «перелистывала» быстро, редко останавливаясь только на памятных моментах, связанных с мамой.
Мама… Мама тоже ушла. Цеплялась за жизнь так долго, сколько могла, чтобы поднять своих девочек. Но болезнь взяла свое и унесла самое дорогое, что было у Ирины. Ушла, оставив ее за старшую, несмотря на то, что Ира родилась на пятнадцать минут позже своей сестры. Это девушка разглядывала с упорством мученицы, как бы больно это не было, повторяя и повторяя: бледное, заострившееся лицо матери, блестящие лихорадочные глаза, потрескавшиеся сухие губы и хриплый тихий шепот, прерываемый мучительным кашлем: «Береги сестру, безалаберная она у нас… только на тебя надеюсь».
В ее жизни было три дорогих человека: мама, сестра и Максимка. И если мама всегда была с ней в памяти, то Алина и Максим… Почему жизнь распорядилась так, что эти два дорогих ей человека явились самой большой проблемой? Жизнь – странная штука с извращенным чувством юмора. Обязательно надо все так переплести, чтобы распутать было невозможно – только разрубить. Больно, по живому, со всего маху. А как было бы здорово… Подсознание услужливо подсунуло эпизод: она ведет урок, рассказывает детям о том, как устроен мир – про планеты, звезды. И тут в класс заглядывает Максим. Смотрит на нее со своим озорным прищуром, будто гадость какую-то задумал – все как в детстве. А у нее всё… Какие теперь планеты? Ноги стали ватными, сердце заколотилось, и никакие слова о звездах и орбитах в голову не идут. Стоит и краснеет, как дура, даже детишки захихикали. Наверное, тогда возник вопрос: что это со мной? И тогда, стесняясь, призналась, прежде всего, себе, что смотреть на этого молодого парня, как на товарища, друга она уже не может.
Но еще больший шок Ирина испытала, когда, толком не разобравшись в себе, увидела заинтересованный взгляд Алины вслед уходящему Максиму. Ира никогда не забудет то нестерпимое желание придушить сестру. «Как она смеет даже смотреть на него ТАК?» Наверное, она не права, что тогда решила пойти на компромисс. Надо было сразу поставить все точки над «Ё» с сестрой. Хотя, зная Алинку, скорее всего ни к чему толковому это не привело, и эта некрасивая сцена соблазнения была бы чуток раньше.
Иру внутри всю передернуло, когда она разглядывала, как обнаженная дрожащая фигура Алины прижимается к плечу такого родного Максима. «Хорошо, что нас тогда разняли – точно бы придушила. Глупо все вышло». Приступ ревности опять завладел ее сознанием, и она быстрее перелистала эпизоды: «Надо как-то научиться пользоваться памятью, чтобы та не подсовывала такие картинки без нужды».
Даже в коме Ирина не могла долго злиться на Алину. Нет, не так – особенно в таком состоянии, когда ей не хватало сестры так сильно, сердиться на нее было совершенно невозможно. В конце концов, они всегда ругались, а в детстве даже доходило до драк, но обижаться друг на друга долго не могли – ни одна, ни другая. И уже через час бежали друг к другу, находя незначительные поводы, чтобы помириться. Ну, а если беда, то общая. Не было такого, чтобы беда одной – совершенно неважна другой. Может, поэтому и не смогли поделить Максимку, так как каждая знала, что его выбор сразу станет ударом для одной из них. По крайней мере, так было у Иры. За свои чувства и мысли она отвечала вполне, тем более теперь, когда кроме этого у нее ничего не осталось.
А когда беда общая, пережить ее вдвоем легче. Так случилось, когда умерла мама, – они вдвоем ревели и вдвоем утешали друг друга, – и когда потерялся Максим. Не было у Иры даже тени сомнения, надо ли идти?… Хотя, идея была явно нелепая, но отпустить сестру одну она не могла… по нескольким причинам. Первая и основная – они всегда все делали вместе, и только так у них могло что-то получиться.
Рассудительность и сдержанность Ирины тормозили кипучую деятельность сестры, которая могла завести в такие дали, что выбрести из них та уже никогда бы не смогла. А во-вторых, Максим ей был тоже не чужой, и она не могла сидеть без дела, когда другие бросились на его поиски. Сейчас, перебирая воспоминания об их путешествии, она схватилась бы за голову – если бы могла до нее дотянуться – насколько глупым и, главное, бесперспективным оно выглядело, но тогда она по-другому поступить не могла. Пошла, нет, даже побежала, несмотря на то, что как никто другой понимала авантюрность затеи сестры.
Поверхность – как передать свои ощущения? Это другая планета. Нет, не так она представляла ее. Да, были рассказы Максима и других людей, но они все равно называли здания в качестве ориентиров, названия каких-то улиц, они видели там город. И для Ирины поверхность оставалась городом. Пускай пустым, заброшенным, но все-таки городом. Она не готова была увидеть это – дикие джунгли с кое-где выглядывающими руинами, которым только при большой фантазии можно было вернуть привычные контуры жилых строений. То, что осталось в ее детской памяти – большие красивые дома, широкие улицы и огромное, просто невообразимо огромное количество людей, гуляющих по паркам, – все это кануло в Лету. Ее мечты детства, ее любимого города, оказывается, уже нет много лет, и он остался только где-то там… глубоко в памяти. Там, где и мама, и голубое небо с ярким солнцем, и стаи голубей – вечно голодных, наглых попрошаек, готовых залезть тебе в рот за вожделенной семечкой. Ничего не осталось. Поверхность стала чужой людям. Город освоили мутанты да сталкеры, которые, со своим звериным чутьем, могут поспорить с этими самыми дикими животными. Только так можно выжить в этом жестоком мире. Ни она, ни сестра не были готовы к этому. Романтику диких территорий сдуло ветром реальности уже через первую сотню метров. Только этой сотни уже вполне хватило, чтобы дорогу назад найти было просто невозможно. И мысль, что слепой котенок наконец-то прозрел, почему-то не успокаивала. Потому что это произошло в слишком неподходящем для жизни мире, и осознание этого гнало вперед сильнее, чем рык страшного зверя за спиной. Движение есть жизнь. Жизнь – это борьба. А борьба за свою жизнь – есть смысл жизни. Вот такие нехитрые постулаты поверхности.
Так что все впечатления от своего пребывания наверху Ирина могла уложить всего в два слова: страх и усталость. Вечное соревнование, где эти два чувства выхватывают друг у друга первенство. Человеку свойственно бояться всего неизвестного, а мир на поверхности был полностью незнаком. Все, что она чувствовала – это один сплошной страх. Страх, да еще усталость: от бесконечного пути, от отсутствия каких-либо хоть немного знакомых мест. И даже усталость от страха, ведь бояться всего на свете – очень утомительное занятие. Настолько утомительное, что боязнь переросла в какую-то отчаянную злость. Вот и третье слово – только благодаря злости она смогла выжить. Первые ростки этого чувства взошли, когда она стояла руки в боки перед опрокинутым ржавым трамваем, пытаясь вразумить сестру. А та, стоя на карачках, только упрямо мотала головой. Злость заслонила собой все, оттеснив и страх, и непомерную усталость, которая просто скосила Алину. А что потом?… Потом снова был Страх или, точнее, Ужас. Он прижал к земле крепче, чем поток воздуха, сбивший ее с ног, и парализующий, выворачивающий наружу мозг, вопль. Огромная тень накрыла Ирину, как одеяло, и, уже прижатая и раздавленная этим ужасом, она видела отчаянный, безрассудный подвиг сестры. Тогда не думалось, что пули могут задеть ее. Они свистели над девушкой, противно визжали, рикошетя от чешуи и роговых наростов ящера, и до сих пор стоит в ушах Алинкин крик, который не приглушила даже маска противогаза: «Не-е-ет!!!». Выжжен на сером веществе мозга раскаленным клеймом. А дальше… как в замедленном кино: сестра с грохотом влепилась в ржавый корпус древнего транспортного средства и безвольной поломанной куклой сползла на серый, потрескавшийся от времени асфальт. Страх победил ужас. Страх за сестру, а ужас перед ящером. Но это не помогло, как она не пыталась успеть… стартовала, как спринтер стометровки на чемпионате мира, но для ящера и это было непростительно медленно. Всего через пару-тройку шагов все закружилось перед глазами, грудь и левую руку стиснул тесный обруч, сковавший все движения и перехвативший дыхание, а трамвай с лежащей рядом Алиной стремительно унесся куда-то вниз и назад.
Вот тут, оттеснив все остальные эмоции, снова на передний план вышла злость. Холодная, расчетливая – мозг работал четко и ясно, а ужас и усталость остались где-то там – далеко внизу. Коготь ящера впивался в бок, разорвав тонкую прорезиненную ткань ОЗК. Левая рука плотно прижата к телу, но правая полностью свободна. Ящер летел на небольшой высоте, оглашая окрестности громким кличем удачливого охотника. Почему-то страшно не было, хотя Ирина прекрасно понимала, какая судьба ее ожидает. И именно это понимание злило больше всего.
Висеть практически вниз головой, зажатой в лапе чудовища, было крайне неудобно. Один из «стальных» когтей ящера впивался в спину, и если бы не рюкзак, надетый за плечами, то мучения девушки уже прекратились бы. Где-то над головой со звуком выбиваемого одеяла хлопали длинные и широкие полотнища кожистых крыльев, окатывая Ирину потоками воздуха. Плотно прижатая к телу левая рука онемела, но самое плохое, что вместе с рукой была пережата и гофрированная трубка противогаза. От недостатка воздуха, а может и от постоянных перепадов высоты, – ящер летел крайне неустойчиво, из-за тяжести добычи постоянно проваливаясь в воздушные ямы, – начала кружиться голова. Дотянувшись свободной рукой до маски, Ира с трудом стянула ее с головы. Холодный влажный воздух, который раньше сквозь резину лишь немного намекал на температуру «за бортом», раскидал по лицу копну каштановых волос девушки, совершенно закрыв и так незначительный обзор. Подставив лицо встречному ветру, она дала потоку воздуха убрать мокрые волосы назад. Видимость улучшилась, но смотреть было особо не на что: перед глазами стоял только покрытый чешуей бок ящера. Под кожей размеренно перекатывались волнами мощные мышцы. Вывернув под невозможным углом голову, Ирина посмотрела вниз. Ящер летел на небольшой высоте – может, метров сто, не больше. Внизу джунгли и руины слились от скорости в один большой пестрый ковер.
Брошенная маска свободно висела на трубке, раскачиваясь в такт махов огромных крыльев ящера. Дышать стало легче. Почему-то Ирину совершенно не заботило, что она нахватается какой-нибудь гадости. Она не сомневалась, что умрет, но очень не хотелось быть разорванной птенцами этой заботливой мамаши, тащившей добычу в гнездо. Лучше уж сразу – грохнуться с высоты, и всё…
Дотянувшись до пояса, она нащупала охотничий нож. Рукоятка единственного оставшегося у нее оружия удобно легла в ладонь, придавая решимости. Нож, как верный друг, добавлял сил, как бы говоря: «Нельзя сдаваться, хозяйка. Пока ты жива, еще не все потеряно».
Выхватив его из ножен, девушка, вложив всю злость в удар, пырнула ящера в бок. Стальное лезвие соскользнуло с мелкой, размером не больше ногтя, чешуи, не оставив на ней даже царапины, но по шкуре животного прошла дрожь, а окрестности огласил недовольный вопль. Лапа сжалась сильнее, совершенно передавив уже и так ничего не чувствующую левую руку. Девушка вскрикнула и ударила ножом по обхватывающей тело когтистой лапе. Ударила не думая, не целясь… ударила, чтобы прекратить стягивающее движение удавки. Нож не отскочил, как было в предыдущий раз. Лезвие глубоко вошло под отошедшую немного на сгибе сустава роговую пластину. Лапа неожиданно разжалась, и Ирина едва не сорвалась – повисла, зацепившись рюкзаком за кривой коготь. Ящер резко сбросил высоту, чуть окончательно не уронив на вираже ношу, но выровнялся и, изогнув длинную шею, повернул к Ирине огромную покрытую роговыми наростами голову. Зубастая морда уставилась на девушку рыжим, как огонь, глазом с узким вертикальным зрачком. Уже совершенно ничего не соображая, Ирина с размаху вогнала нож по самую рукоятку в этот ненавистный глаз. От вопля, который ящер исторг прямо в лицо девушки, Ирина оглохла. Животное мотнуло головой, чуть не вырвав ей руку с ножом из плеча, и, конвульсивно дернувшись, вытянулось всем телом в струну. Тварь катастрофически теряла высоту. Судорожно взмахивая крыльями, она зацепилась за деревья и, ломая ветки, рухнула на землю.