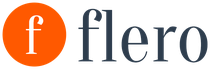Герои Соломона Волкова могут придать объемность, глубину любой, самой плоской эпохе. Волков общался с Ахматовой, Шостаковичем, Рихтером, Бродским, перечень собеседников его бесконечен. Из диалогов с ними вышло множество книг - ни одна не прошла незамеченной. Прошлой осенью был трехсерийный телефильм - его беседы с Евгением Евтушенко. Нынешней осенью, к самому началу Московской международной книжной выставки-ярмарки, подоспела новая книга диалогов Волкова - с Владимиром Спиваковым.
Издательство АСТ
- Соломон Моисеевич, все-таки, почему вы всем жанрам предпочитаете "диалоги"?
Соломон Волков: Все началось с тех пор, как я понял, что интервью мне удаются. Как-то на Рижском взморье отдыхал Андрей Вознесенский, и я сделал с ним интервью для местной газеты. А потом я увидел, что поэт воспроизвел его в своей книжке практически без изменений, ни слова не изменил. Это было как подтверждение от мэтра. Я понял, что у меня получается.
Почему диалоги? В основе всего, конечно, любопытство к человеку. У меня врожденное восхищение перед выдающимися творческими личностями. Я нашел у Александра Бенуа: он писал о Дягилеве (с которым я себя никоим образом не сравниваю, просто схож тип мышления). Дягилеву мог быть неинтересен роман какого-то писателя, но он мог часами сидеть на его лекции: автор романа интересен ему как личность. Вот у меня очень похожая эмоция.
Я ведь по сию пору очень, очень тщательно готовлюсь к разговорам со своими собеседниками. Люди не могут каждый раз придумывать заново свою биографию, повторяются, ставят, как говорила Анна Андреевна Ахматова, уже готовую пластинку. Я часто знаю заранее, что мне ответят, - и все равно спрашиваю, потому что всегда можно уловить какой-то новый изгиб, новый оттенок...
Ярких, великих личностей во второй половине двадцатого века было немало. Как вы выбирали себе среди них собеседников? Почему - именно с Шостаковичем? Или - именно с Бродским?
Соломон Волков: Обширные диалоги, которые потом выходили книгами, делались, конечно, не за один день. А часто и не за один год. С Бродским работа растянулась у нас лет на 16. Он разъезжал по свету, его разрывали на части, выкроить время было непросто, встречались, когда он появлялся в Нью-Йорке… Так и с великим русско-американским скрипачом Натаном Мильштейном - его мемуарная книга, получившаяся из наших бесед, делалась 10 лет. Это, кстати, единственная из моих работ такого рода, не появившаяся в России. Хотя все книги я писал на русском языке. И разговаривал со всеми только по-русски - и с Джорджем Баланчиным, и, разумеется, с Шостаковичем, и с Бродским.
К чему я клоню? В таких длительных работах только кажется, что это ты выбираешь себе собеседника. Тут, как в браке: думаешь, что выбираешь жену, а на самом деле это жена тебя выбрала. И вы вступаете в долгосрочные отношения…
Ну, по совести говоря: разве всем этим критикам не любопытно, они не хотят знать, кто научил Ахмадулину пить? И у кого же еще спрашивать об этом, как не у Евтушенко?
Самые долгосрочные у вас, видимо, со Спиваковым - вы ведь дружите со школьных времен. Но и с другими своими героями вы же не ограничивались сугубо деловыми, формальными отношениями?
Соломон Волков: Спиваков все-таки уникальный случай. Да, меня иногда спрашивают, а вы дружили с Шостаковичем, а с Бродским? Я всегда отвечаю: нет, не дружил. Я помогал им оформлять их уже сложившийся замысел. Чаще всего я и сам еще ни о чем не подозревал, а они уже знали, зачем им я.
Со Спиваковым же у нас настоящая дружба, которой 55 лет. Дружба эта началась еще в музыкальной школе-десятилетке при Ленинградской консерватории, куда я приехал 13-летним. После того, как я уехал в Америку, в нашем общении бывали многолетние перерывы, но рано или поздно все возобновлялось. Мы провели в разговорах, никак не думая о книге, сотни часов. Ну какая книга - когда мы просто друзья.
Про книгу первой заговорила жена Спивакова, Сати, - это ее идея. Пару лет назад, после какой-то встречи, она вдруг сказала мне: у Володи будет 70-летие, хорошо бы сделать книгу - не глянцевую бессмыслицу, а серьезный, откровенный разговор. В первый момент я опешил, а потом подумал: конечно, это интересно. Несмотря на годы общения, Спиваков и для меня оставался "человеком-загадкой". Нет, он совершенно не высокомерный, но в его душе полно дверей, наглухо закрытых для посторонних. Парадокс в том, что "проникать" ему в душу пришлось как раз очень публичным образом. Мы не сидели с ним наедине, все записывалось под "юпитерами" на пленку для телефильма, который вроде бы покажет в сентябре канал "Культура". Это происходило в Кольмаре, на юге Франции, где у Спивакова каждое лето фестиваль. В этом был элемент волнующего эксгибиционизма: откровенно говорить в присутствии съемочной группы. Тем не менее, Спиваков, мне кажется, высказался о вещах для него сокровенных…
Вот, например, он очень трогательно рассказывает в книге о своей первой любви - как тяжело переживал, когда она ушла к дирижеру Рождественскому. Откровения мужа не смутили Сати? Она не пожалела, что заварила эту кашу?
Соломон Волков: Знаете, может быть, я раскрою секрет, но скажу вам совершенно откровенно: именно об этом мы говорили по ее настоянию. Всю эту историю, естественно, я знал. Но в том, что он решился говорить настолько откровенно, для меня открылась какая-то очень важная романтическая и трагическая струна Спивакова. Спасибо Сати за это.
Ваши диалоги всегда - интеллектуальные, эстетские, но при этом вы не обходите стыдливо вопросы личной жизни своих героев. По-вашему, одно другому не противоречит?
Соломон Волков: На этот счет когда-то замечательно высказался Иосиф Бродский. Мы с женой часто разговариваем дома цитатами Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. Марианна, моя жена, выпустила 10 фотоальбомов в Америке, в частности, огромный фотоальбом о Бродском и две книги кинематографические с историями от Довлатова. Одна из его историй была как раз о Спивакове.
Про то, как Владимир Теодорович впервые приехал на гастроли в Америку, и перед Карнеги-холлом его встретили люди с транспарантами: "Вон из Америки, агент КГБ". Все действительно так и было или это обычные для Довлатова выдумки?
Соломон Волков: Когда готовился этот альбом, Сергей просил нас рассказать забавные истории о том или ином персонаже. Мы с Марианной вываливали ему груды разных сюжетов, не имея понятия, что и как Довлатов использует. А из этого потом появились отточенные миниатюры, сразу прилипавшие к персонажам. Вот все же помнят историю о том, что сказал Бродский про Евтушенко, когда лежал в больнице. "Если Евтушенко против колхозов, то я - за"…
- Да, но вы все-таки ушли от ответа. Что же сказал Бродский о тех, кому любопытно и личное, и сокровенное?
Соломон Волков: Одно из изречений Бродского: "На свете есть только две интересные вещи, о которых стоит говорить, - это метафизика и сплетни". Я с ним согласен. Говорить надо о самом глубоком - или о бытовом. Бенуа тоже отмечал, что Дягилева страшно интересовало, у кого какие взаимоотношения, кто с кем и как. О Довлатове и говорить нечего - его это как раз в первую очередь волновало. Но и Бродский был небезразличен к такого рода бытовым подробностям.
- За эти "бытовые подробности" вас, кажется, больше всего упрекали после фильма с Евгением Евтушенко?
Соломон Волков: Меня удивило - когда Первый канал показал фильм Анны Нельсон "Соломон Волков. Диалоги с Евтушенко", на Евтушенко накинулись с каким-то остервенением. Но и на меня тоже: зачем я спросил: а кто научил Беллу Ахмадулину пить? Я даже опешил. Ну, по совести говоря: разве всем этим критикам не любопытно, они не хотят знать, кто научил Ахмадулину пить? А мне, не скрою, интересно. И у кого же еще спрашивать об этом, как не у Евтушенко?
Я не спрашиваю своих собеседников о том, что меня не интересует. И они отвечают на такого рода вопросы - потому что видят, что за этим никакого "злого умысла", я не пытаюсь выудить из них "жареное", просто мне, как человеку, важно это узнать и понять.
К слову о выпивке. Однажды вы признались интервьюеру, что могли, бывало, легко "уговорить" с женой Марианной бутылку коньяка…
Соломон Волков: Именно так. У меня два раза печень обрушивалась. Жена оказалась более крепкой. Действительно, я пил серьезно, и печень обрушилась, и я сделал на год перерыв. Потом возобновил, и вроде бы ничего. Но она опять обрушилась. И тут я сильно испугался. Но… полностью от коньяка не отказался.
Евтушенко, кстати, в том телефильме выпивал перед камерой, а вы отказались. Вам алкоголь мешает в общении с великими собеседниками? Или все же "без поллитры" с великими не разберешься?
Соломон Волков: Это началось у меня с Шостаковича. Когда я появлялся, он неизменно предлагал для начала выпить. Я неизменно отказывался, считая, что это мешает… С Бродским мы пили вино во время разговоров, но не регулярно. А с остальными - никогда. Ни с Мильштейном, ни с Баланчиным, ни со Спиваковым сейчас, когда работали. Я для куража принимал стопочку-другую перед интервью, но он был трезв, как стеклышко. Кому как, а мне коньяк помогает, прочищает носоглотку - легче говорить.
Если Шостакович все начал - давайте к нему и вернемся. "Свидетельство", первая ваша книга, вышедшая в 70-х годах, - мемуары Дмитрия Дмитриевича, составленные из его рассказов вам. Вокруг книги было много споров. А Родион Константинович Щедрин, беседуя со мной, сказал однажды: "Главное, не навредила она Шостаковичу, помогла изменить отношение к композитору на Западе, - значит, книга нужна и важна"…
Соломон Волков: … И я с ним абсолютно согласен. Если вы посмотрите, ни одному из моих героев наши "диалоги" не повредили. Бродский, кстати, согласился на разговоры в значительной степени благодаря мемуарам Шостаковича. И не только Бродский. Натан Мильштейн позвонил: давайте сделаем что-то подобное книге с Шостаковичем.
Без полемики и нападок не обходилась ни одна из моих книг - ни книги диалогов, ни "История культуры Санкт-Петербурга", ни двухтомник по истории русской культуры (от времен царствования Романовых до конца ХХ века), ни "Шостакович и Сталин". Сначала я огорчался, потом перестал. Категорически не нравится то, что я делаю, одной и той же социальной группе людей и в США, и в России. Ну, как говорится, я не червонец, чтобы всем нравиться.
Когда ушел из жизни Шостакович, традиционный для Запада взгляд на него был отражен в некрологах, состоявших из штампов: Шостакович - верный сын коммунистической партии. Мол, если у человека пять Сталинских премий, то он определенно должен быть сталинским прихвостнем. Сейчас - так скажет разве что сумасшедший. Все понимают, что Шостакович - абсолютно независимая личность, сохранившая, несмотря на какие-то вынужденные компромиссы, и честь, и достоинство. Сейчас даже мои оппоненты, в сущности, повторяют то, что впервые было высказано Шостаковичем в этой мемуарной книге.
Все ваши собеседники - Шостакович, Бродский, Баланчин, Спиваков - непременно касаются общей темы: художник и власть. Эта тема актуальна во все времена?
Соломон Волков: Конечно. Но в этом отражаются и мои интересы. Я не часто вступаю в полемику с собеседниками, но бывает. Евтушенко написал мне слова благодарности за один такой случай - когда Бродский начал ругать его, а я попытался возразить… Но дело не в этом. Все-таки на общую структуру и содержание диалога влияют твои личные предпочтения. А меня с детства волновала именно эта тема.
То есть, ровесники играли в "казаков-разбойников" или собирали марки, а вы думали о проблемах "художника и власти"? Веселенькое у вас было детство.
Соломон Волков: Да, в детстве часто коллекционируют почтовые марки, солдатиков и тому подобное. Моей первой личной коллекцией в 53-м году (мне было девять лет) стали фотографии Сталина. При жизни его публиковались только стандартные отретушированные портреты неопределенного возраста, где он лучезарно смотрит вдаль. За этим при Сталине следили жестко, как и при Романовых: какие изображения вождя, лидера, монарха можно публиковать, а какие нельзя.
Но когда он умер, все газеты заполнились огромным количеством снимков, которые никто никогда прежде увидеть не мог. Сталин с Максимом Горьким, с артистами МХАТа, в самых разных ситуациях. И я стал собирать именно эти фотографии. Вроде ребенок, но за этим подсознательно уже скрывалось любопытство: как политика в лице Сталина взаимодействует с культурой в лице персонажей, с которыми он запечатлен на снимке? К величайшему сожалению, эту мою первую коллекцию однажды одолжила у меня знакомая и зажилила, не вернула. Страшное было для меня тогда огорчение… Но этой теме действительно посвящены все мои книги, и в жанре диалогов, и в жанре истории культуры.
Реакция самых близких мне людей: зачем ты в это дело ввязался? Кому нужен Сталин, какая еще культурная политика Сталина, у него была одна политика - резать! Мне такая точка зрения представляется очень ошибочной
Вы будто дразните многих собеседников, отказываясь говорить о Сталине общепринятыми сегодня штампами. Кто-то даже уточнял, не сталинист ли вы часом?
Соломон Волков: Это Таня Бек сказала - в шутку. Хотя, конечно, она озвучила то, что иногда беспокоит моих собеседников… Но сами можете себе представить, какой из меня сталинист?
Вы верите, что придет время, когда трезвый анализ и попытка действительно объективного взгляда на эту важную историческую фигуру XX века будут преобладать над эмоциями и сиюминутными конъюнктурами?
Соломон Волков: Об этом можно только мечтать. Тут есть особая проблема. Есть такое слово в английском языке - "дефинитивный". Это такой тон, который позволяет действительно со всех сторон, со всей возможной полнотой доступных фактов излагать некий сюжет.
Скажем, существует ли в русской культуре такая дефинитивная биография Пушкина или Достоевского, которая бы могла рассматриваться как основополагающая, освещающая проблемы с учетом всех сторон, максимально объективно? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что нет. Есть хорошие книги, каждая из которых уклоняется в какую-то сторону и каждой из которых не достает огромного количества каких-то фактов.
Вот американец Альберт Франк выпустил пятитомную биографию Достоевского на английском. Ничего подобного на русском языке нет.
Почему это сложилось на Западе и почему до сих пор не сложилось в России - отдельный вопрос. Россия проходила через такие сложные турбуленции, что до сих пор не налажен, как в Америке, такой конвейер по производству биографий на академической, университетской основе. И это одна из причин, по которой, к величайшему сожалению, нет дефинитивной биографии ни одной политической фигуры: ни Ленина, ни Сталина, ни Николая Второго. Каждый раз вместо дефинитивной биографии мы имеем очередную полемическую работу, которая впадает в одну или другую крайность.
Самой примечательной работой в России о Сталине является биография Дмитрия Волкогонова, которого, учитывая заслуги и чины, допустили к самым засекреченным архивам, в которые после него уже никто не заглядывал. Но работа Волкогонова, при всей ее ценности, обусловлена текущей конъюнктурой перестроечного периода, когда все писалось в определенном ключе, это был политический заказ эпохи.
В своей вполне скромной книге "Шостакович и Сталин" я попытался прокомментировать высказанные Шостаковичем в своих мемуарах воззрения на Сталина с учетом уже появившихся документов, прежде засекреченных. Реакция самых близких мне людей: зачем ты в это дело ввязался? Кому нужен Сталин, какая еще культурная политика Сталина, у него была одна политика - резать! Мне такая точка зрения представляется очень ошибочной. Пока не будет подготовлена именно такая многотомная академическая биография, - все исторические оценки так и будут диктоваться лишь текущими политическими вихрями. А надо хотя бы пытаться этому сопротивляться.
Тот факт, что я посвятил много времени изучению культурной политики Сталина и собираюсь эту тему продолжить, отнюдь не означает, что я являюсь хоть в малейшей степени сторонником Сталина. Я отдаю себе отчет, какой монструозной фигурой он был. Но хочу понять, что этим человеком двигало, а не просто: злодей, палач, плюнем и разотрем. Это антиисторический подход, он всегда будет мешать трезвому разговору о будущем.
Вот в Германии решились взяться за комментированное научное издание "Майн кампф" Гитлера. Коллектив ученых готовит обширные, тщательно составленные комментарии к этой одиозной книге. У меня дома стоит 13-томное собрание сочинений Сталина, выпущенное при его жизни. Я не пожалел бы денег, если бы эти 13 томов сейчас переиздали с подробнейшими и тщательными комментариями, основанными на документах. Никто и не подумает взяться за такую работу. А это первое, что надо сделать для подготовки объективной, насколько возможно, биографии Сталина. Хотя надежд на это немного.
Кстати, мне кажется любопытно заглянуть в историю: с какого момента, кто и для чего стал уверять, что между именами Сталина и Гитлера нет никакой разницы? Искать ответы на такие вопросы сегодня просто верх неприличия: чтобы выглядеть передовым и неглупым, достаточно повторять один-два расхожих штампа, не задумываясь. Конъюнктура такая: много думать вредно.
Соломон Волков: В тот момент, когда начинают говорить или писать, что Сталин - это Гитлер, я сразу такую книжку откладываю. Тут сразу ясно, что человеку важно не разобраться в чем-то, а навесить политический ярлык. Как ни удивительно, мне кажется, что лучшая двухтомная биография Сталина написана американским историком Робертом Такером. Любопытны работы английского историка Саймона Себаг-Монтефиоре. В России либо огульное обличительство, либо не менее огульная апологетика, - увы, на этом фоне работы западных историков выгодно отличаются степенью объективности и взвешенности.
Со Сталиным нет внятных ответов на очень многие важнейшие вопросы, начиная с коллективизации, индустриализации и кончая "делом врачей". Меня интересует культурная политика. Многим кажется невозможным, что один человек мог настолько контролировать все. А его можно сравнить, пожалуй, только с Николаем Первым: он лично следил за творчеством и поведением нескольких тысяч творцов современной ему культуры. Это нечто феноменальное, такого микроменеджмента, микроуправления культурой, какое осуществлялось при Николае и при Сталине, никогда не было. И оба работали, что интересно, по 18, иногда 20 часов в сутки - это отмечали современники. То есть это люди чудовищной работоспособности, памяти, просто невероятных физиологических качеств. Подчеркну еще раз: я говорю об этом отнюдь не в панегирических целях. Просто констатирую факт.
Не удержусь, спрошу - не про Сталина, а про Хрущева. Не так давно промелькнуло сообщение: американская гражданка, правнучка Хрущева, отдавшего Крым, рассуждает на CNN о том, что "Россия подавится Крымом". Я не о политических оценках, кто прав, кто виноват, - каждый волен иметь свое мнение. Но в этой ситуации какая-то ирония судьбы в квадрате. Никита Сергеевич демонстрировал дурной вкус и низкий стиль, стуча башмаком на Америку, правнучка стучит туфелькой уже на Россию из Америки. Вчера заблуждался прадед - не окажется завтра, что заблуждается и правнучка? Может, в таком пикантном случае приличнее хотя бы промолчать?
Соломон Волков: Будучи историком культуры, я принципиально не считаю себя вправе вмешиваться в оценки и рассуждения по поводу текущих событий и проблем. Стараюсь этой позиции придерживаться. Когда даже проблемы чуть не столетней давности, связанные со Сталиным, вызывают такую бурю страстей, будто это происходит прямо на наших глазах, можно ли говорить о том, что движет людьми сейчас? Я могу только констатировать, что такого раскола, какой я могу наблюдать сейчас в интеллектуальной российской среде, я, пожалуй, за всю свою жизнь не видел. Это меня удручает - но это все, что я могу сказать по этому поводу.
В самом деле, сменим пластинку. Вернемся к Евгению Евтушенко. Был телефильм - а книга ваших диалогов с ним тоже предполагается?
Соломон Волков: Да, конечно, просто до нее руки не доходят. Но, мне кажется, это будет интересная книга. Помимо того, что вошло в фильм, в книге будет в большей степени моя индивидуальная работа.
В этом фильме была одна очевидная странность. Евгений Александрович старательно, подчеркнуто обходит стороной любые упоминания о Вознесенском. Хотя история их отношений не менее интересна, чем отношения Евтушенко и Бродского. Отчего так?
Соломон Волков: В процессе разговора это было не так очевидно. Я это осознал позднее. Думаю, этой работой Евтушенко сделал одну фантастическую вещь, а именно - постарался разорвать цепочку. Существуют такие устойчивые связки в восприятии: Толстой - Достоевский, Шостакович - Прокофьев. Точно так же существовала пара: Вознесенский - Евтушенко. Задним числом я всегда поражаюсь, насколько мой герой умнее меня. Я этого не понимал, когда разговаривал с Евтушенко. Он же этим разговором вместо связки "Вознесенский - Евтушенко" создает новую связку: "Евтушенко - Бродский". Тут надо отдать должное уму Евгения Александровича.
Я его очень люблю как поэта. Многие удивляются: какое я имею право любить и работать над книгой с Евтушенко, если я люблю Бродского и сделал книгу с ним? Меня все время пытаются загнать, чтобы я маршировал только под знаменами Бродского. Ну разве это не глупость? Мой друг Гриша Брускин, художник нью-йоркский, хорошо сказал: истина яблони не отменяет истины кипариса. Так что я после нашего разговора невероятно восхищаюсь фантастической жизненной силой, которой обладает Евтушенко, его огромным умом и талантом. Помните, как Сталина спросили по поводу романа Константина Симонова с актрисой Серовой - что делать? Он сказал: завидовать будем. Вот так и тут.
- Связки связками, а Вознесенского из русской поэзии не вычеркнешь. Вы же общались с ним не однажды?
Соломон Волков: У нас с ним были очень хорошие отношения. Мы встречались не раз в Москве и в Риге, и в Нью-Йорке. Один раз он зашел ко мне в гости: ему надо было срочно напечатать ответ на какую-то недоброжелательную статью о нем. Так что у меня до сих пор дома стоит историческая пишущая машинка, на которой Вознесенский печатал собственноручно.
Я очень высоко ценю Андрея Вознесенского как поэта, он незаслуженно сейчас оказался в тени. Меня утешает тот факт, что нет такой творческой личности, которая бы на время не погружалась в тень. Мы забываем сейчас, что и Пушкин не всегда считался солнцем русской поэзии, и он уходил в тень. Кстати, о чем тоже забывают, во многом благодаря усилиям Сталина пушкинские юбилеи стали праздноваться с нечеловеческой пышностью. Сталин сделал обязательными двух поэтов: Пушкина и Маяковского. И Александр Блок в моей юности был обязательным поэтом для молодых людей. А сейчас - нет. На какое-то время Блок ушел в тень, но, конечно, вернется. То же самое и с Вознесенским.
И у Евтушенко, и у Вознесенского особые отношения сложились именно с Бродским. Это отдельный треугольник или многоугольник, о котором надо отдельно думать. И в нем тоже нельзя впадать в крайности, становясь оголтелым сторонником одного человека или направления. Нужно пытаться осмыслить очень сложные взаимоотношения этих выдающихся личностей.
У Пушкина вы находили три миссии художника: самозванец, юродивый, летописец. Если уж мы говорим о шестидесятниках - кого среди них было больше: самозванцев, юродивых или летописцев?
Соломон Волков: Кажется, что определение "самозванец" звучит обидно. Но Пушкин, если присмотреться, в "Борисе Годунове" к самозванцу относится с симпатией. Пушкин там делит себя на эти три ипостаси, три, условно говоря, маски. Он сам себя ощущал и летописцем, и юродивым, и самозванцем. Есть потрясающие воспоминания графа Владимира Соллогуба, он приводит замечательные слова Пушкина: "Я публичный мужчина, а это гораздо хуже, чем публичная женщина". Когда человек высказывается о текущей политической проблеме, выходит на трибуну, занимает какой-то пост - он уже, хоть немного, но самозванец. Может быть, немножко, но самозванец. Те же Евтушенко или Вознесенский ездили по миру, давали интервью, обедали, как написал Бродский, черт знает с кем во фраке. Значит, в них было что-то и от самозванцев. Но, безусловно, они и летописцы эпохи 60-х годов.
Насчет юродивых - в наименьшей степени, между прочим, это свойственно Вознесенскому. Он был очень рациональным, невероятно трезво мыслящим. Евтушенко любит появляться в невероятных пиджаках, кепках и галстуках. Это немножко от юродивого - но это и своеобразно, и даже трогательно. У Вознесенского это присутствовало в меньшей степени.
- Он шейные платочки носил.
Соломон Волков: Да, меня этот платочек всегда смущал. Еще мне очень не нравилось его любимое слово "прикид". Но… вообще, когда я беру томик любого из этих поэтов, будь то Бродский, Евтушенко или Вознесенский, я не могу оторваться. Затягивает как в воронку, и его истина в момент, когда я читаю, мне кажется суверенной и превалирующей.
Ваши собеседники были небожителями - но с удовольствием позировали перед фотокамерами. Уж на что, казалось бы, Святослав Рихтер "вещь в себе", а и он, писали вы когда-то, был не чужд…
Соломон Волков: Мы познакомились при забавных обстоятельствах. После очень длительного перерыва в Москве, в Камерном музыкальном театре Бориса Покровского возобновили "Нос" Шостаковича. Они находились тогда на станции метро "Сокол", в бывшем кинотеатре. Унылое помещение, подвальчик. Первые десять представлений я ходил, как штык. На всех этих представлениях был и Святослав Теофилович. А фойе очень маленькое, невозможно было разминуться. Первый раз мы столкнулись - я его сразу узнал, а он обо мне понятия не имел. На втором спектакле он уже обратил внимание на меня. На третий он мне улыбнулся. А на четвертый - подошел в антракте в фойе. И мы стали обсуждать спектакль. Ему хотелось высказаться, впечатления его переполняли. Он был страшно увлекающийся человек. И он любил, когда его фотографировали, он позировал. Но пресса предпочитала не касаться приватной жизни звезд того времени. Так что снимков этих никто не видел, появлялась официальная фотография раз в год в "Огоньке". Я помню такую - он сидит, облокотившись, задумчивый, на пиджаке лауреатская медаль. Он считал себя красивым, интересным мужчиной, имея на то основания, конечно… Рихтеру это нравилось, но и не только ему. Скажем, тот же Бродский - впечатление такое, что он выше всего суетного, небожитель. А посмотрите, какое невероятное количество фотографий осталось - где Бродский позирует, смотрит в камеру, принимает выражение лица. Если бы небожителей не волновала мирская слава, они бы и не позировали.
Когда-то вы бывали у Анны Ахматовой, общались с ней. Очевидно, что вы неспроста назвали ее "мастером создания репутаций". От нее пошел ярлык, которым она наградила молодых поэтов в начале 60-х: "эстрадники". В интернете нетрудно обнаружить некий hate-лист Бродского, десять самых злобных высказываний о самых разных литсобратьях. Из реплик Анны Андреевны при желании можно составить то же самое…
Соломон Волков: Безусловно.
- Насколько художники бывают пристрастны, насколько их сиюминутные оценки имеют непреходящее значение?
Соломон Волков: Почему моим любимым чтением являются переписка и дневники? Потому что, когда ты читаешь переписку великих людей и их дневники, то ты начинаешь глубже понимать, почему человек сказал то или другое. Это далеко не всегда обусловлено их эстетическими принципами, на 80-90 процентов за этим - их личные связи, столкновения, симпатии и антипатии. Сначала Толстой с Тургеневым не понравились как люди, а уже потом как писатели. Дуэль была назначена - представляете, Тургенев подстрелил бы Толстого, или Толстой Тургенева?
- Мандельштам вызывал на дуэль Хлебникова, Блок - Белого…
Соломон Волков: Или вот посмотрите на сложнейшие взаимоотношения Цветаевой и Ахматовой. Дружбой это не назовешь ни при каких условиях, сколько там было подводных течений с одной и с другой стороны, как они обе эти свои подводные эмоции выражали… Конечно, у Ахматовой очень многое зависело от ее личного отношения. Она и при мне не раз очень недоброжелательно высказывалась практически обо всех шестидесятниках. Они физически были ей не слишком близки. Ей, безусловно, была приятна популярность, она и была периодами безумно популярным поэтом. А потом, в силу целого ряда тяжелых причин, в предвоенные и послевоенные годы это все ушло под воду. И вдруг эти шестидесятники с их стадионными аудиториями. Был во всем этом, кроме всего прочего, и элемент ревности, вне всякого сомнения.
- Еще одна яркая историческая фигура двадцатого века, с которой вы пересекались - Жаклин Кеннеди…
Соломон Волков: Пересекался, а уж Вознесенский был просто ее близким другом.
Она даже звонила вам однажды, чтобы узнать - что за поэт Сергей Есенин и правда ли, что он не менее популярен, чем Вознесенский?
Соломон Волков: Да, это было, ее волновал как раз Вознесенский. У меня с ней были чисто профессиональные отношения, поскольку она была влиятельным редактором в издательстве "Даббл дэй" в последние годы своей жизни.
Ее заинтересовала моя книга диалогов с Баланчиным, который был одним из ее любимцев - они же с Джоном Кеннеди приглашали и Баланчина, и Стравинского в Белый дом. Баланчин был от нее без ума, называл ее императрицей, вроде Екатерины, такой покровительницей искусств. Она была, конечно, франкофилкой, будучи француженкой по своим дальним корням. Хорошо знала французскую культуру. Но она же была и невероятной, искренней русофилкой. Это самое удивительное - для жены президента Соединенных Штатов. И это невероятно трогательно.
Так вот, ее заинтересовала моя книга, и она мне позвонила. Это я тоже никогда не забуду: раздался звонок, и женщина представилась как Жаклин Онассис. Я просто повесил трубку. Через некоторое время звонок повторился, и этот же мягкий, кошачий голос, сказал: вы знаете, с вами действительно говорит Жаклин Онассис, вот вам мой телефон, если хотите - перезвоните. Тут я уже поверил… Она хотела перекупить права на книгу, издать ее в мягкой обложке, что она и осуществила. Мы встречались несколько раз по редакторским делам. Она была классным редактором. Если она бралась за какую-то книгу, она обязательно из нее делала бестселлер. У нее было то, что американцы называют magic touch, волшебное прикосновение. И она всегда умела выбрать самую подходящую обложку.
А потом Жаклин стала мне позванивать с такими вопросами. Она же открыла заново Нину Берберову. У себя в английских переводах начала ее издавать. И так же, как с Есениным, в связи с Берберовой интересовалась, правда ли ее муж Ходасевич был такой замечательный поэт?
Вообще, весь этот миф Кеннеди во многом возник благодаря ее усилиям. Роль женщин в создании посмертного мифа о своих великих супругах невероятно велика. Такой же яркий пример того, что женщина может сделать очень многое для судьбы наследия своего мужа - Елена Сергеевна Булгакова. Бывает и наоборот, глупая вдова закапывает творческое наследие своего мужа - такое мне тоже известно.
Бродский в ваших диалогах уверял, что он завидует судьбе Архилоха, от стихов которого остались одни крысиные хвостики. В этом есть доля кокетства, но… Правда ли, что жизнь мельчает, остались одни крысиные хвостики - и все труднее найти великих собеседников для будущих диалогов?
Соломон Волков: Вечное инстинктивное желание сказать "Богатыри - не вы, были времена, когда все было крупнее". Наверное, любому пожилому человеку кажется, что кумиры его юности были самые крупные и великие. Но каждое поколение находит своих кумиров, а как их расставит по своим местам история, нам очень трудно понять.
Для меня любимое время в России - предреволюционное, условно обозначаемое, как Серебряный век. Картина культуры была во много раз сложнее, чем то, что существует в наших сегодняшних представлениях об этой эпохе. Невероятной популярностью пользовались такие фигуры как Леонид Андреев, поэт Скиталец или писатель Анатолий Каменский. Это были люди невероятно популярные, о них знали все, каждый день отслеживала массовая пресса: куда они пошли, в какой ресторан, где их видели, с кем. Тогда пресса уже начинала потакать массовому читателю, которого интересовали все эти детали. Эти люди были настоящими мастерами, но сейчас их мало кто помнит и читает. Того же Федора Сологуба.
Недавно у меня зашел с приятельницей разговор о либретто "Ивана Сусанина" советского времени: герой не мог уже спасать царя, теперь он спасал Москву. Приятельница спросила, кто написал это либретто. Я говорю: Сергей Городецкий. Она: кто-кто? Забыт даже такой потрясающий поэт, каким был молодой Городецкий. Акценты очень сильно меняются. И предсказать, о ком из современных деятелей российской и мировой культуры будут помнить лет через 20-30, а тем более через полвека или век, чрезвычайно трудно. Предсказаний делать я не берусь. Не знаю. И никто не знает.
Справка "РГ"
Соломон Волков - музыковед, культуролог. В 1979 году издал книгу мемуаров Дмитрия Шостаковича "Свидетельство", записанных им на основе личных бесед с композитором. Автор книг "Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным", "История культуры Санкт-Петербурга", "Диалоги с Иосифом Бродским", "Шостакович и Сталин: художник и царь". В эмигрантских изданиях Волкова именуют "русским Эккерманом" (напоминая об авторе знаменитых "Разговоров с Гете"). В 1988 году в Англии по книге Волкова был снят фильм "Свидетельство" (Testimony) с Беном Кингсли в роли Шостаковича.
На днях новая книга Волкова - "Диалоги со Спиваковым" - вышла в редакции Елены Шубиной издательства АСТ.
«Диалоги с Бродским» – книга для русской литературной культуры уникальная. Сам Волков пишет в авторском предисловии об экзотичности для России этого жанра, важность которого, однако, очевидна. Единственный известный автору этих страниц прямой аналог – записи обширных разговоров с Пастернаком – блестящая работа Александра Константиновича Гладкова. Но она, как мы увидим, принципиально отлична от «Диалогов».
В предисловии к «Разговорам с Гете» Эккермана – неизбежно возникающая параллель, подчеркнутая Волковым в названии, – В.Ф. Асмус писал: «От крупных мастеров остаются произведения, дневники, переписка. Остаются и воспоминания современников: друзей, врагов и просто знакомых… Но редко бывает, чтобы в этих материалах и записях сохранился на длительном протяжении след живых бесед и диалогов, споров и поучений. Из всех проявлений крупной личности, которые создают ее значение для современников и потомков, слово, речь, беседа
– наиболее эфемерные и преходящие. В дневники попадают события, мысли, но редко диалоги. Самые блистательные речи забываются, самые остроумные изречения безвозвратно утрачиваются… Во всем услышанном они (мемуаристы. – Я.Г
.) произведут, быть может, незаметно для самого собеседника, отбор, исключение, перестановку
и – что самое главное – перетолкование
материала. <<…>> Что уцелело от бесед Пушкина, Тютчева, Байрона, Оскара Уайльда? А между тем современники согласно свидетельствуют, что в жизни этих художников беседа была одной из важнейших форм существования их гения»1
Эккерман Иоганн Петер
. Разговоры с Гете. М.-Л. С. 7.
В русской культуре существует также феномен Чаадаева, самовыражение, творчество которого в течение многих лет после катастрофы, вызванной публикацией одного из «Философических писем», происходило именно в форме публичной беседы. Судьба разговоров Пушкина подтверждает мысль Асмуса – все попытки задним числом реконструировать его блестящие устные импровизации не дали сколько-нибудь заметного результата.
Но существо проблемы понимали не только теоретики, но и практики. Поль Гзелль, выпустивший книгу «Беседы Анатоля Франса», писал: «Превосходство великих людей не всегда проявляется в их наиболее обработанных произведениях. Едва ли не чаще оно узнается в непосредственной и свободной игре их мысли. То, под чем они и не думают ставить свое имя, что они создают интенсивным порывом мысли, давно созревшие, падающие непроизвольно, само собой, – вот нередко лучшие произведения их гения»2
Беседы Анатоля Франса. Пг.-М., 1923. С. 10. Но как бы высока ни была ценность книги «Разговоры с Гете», сам Асмус признает: «И все же «Разговоры» воссоздают перед читателем образ всего лишь эккермановского
Гете. Ведь интерпретация… остается все же интерпретацией». «Диалоги с Бродским» – явление принципиально иного характера. Наличие магнитофона исключает фактор даже непредумышленной интерпретации. Перед читателем не волковский
Бродский, но Бродский как таковой. Ответственность за все сказанное – на нем самом. При этом Волков отнюдь не ограничивает себя функцией включения и выключения магнитофона. Он искусно направляет разговор, не влияя при этом на характер сказанного собеседником. Его задача – определить круг стратегических тем, а внутри каждой темы он отводит себе роль интеллектуального провокатора. Кроме того – и это принципиально! – в отличие от Эккермана и Гзелля Волков старается получить и чисто биографическую информацию. Однако все же главное – не задача, которую ставит перед собой Волков, – она понятна, – а задача, решаемая Бродским. Несмотря на огромное количество интервью поэта и его публичные лекции, Бродский как личность оставался достаточно закрытым, ибо все это не составляло системы, объясняющей судьбу. Известно, что в последние годы Бродский крайне болезненно и раздраженно относился к самой возможности изучения его, так сказать, внелитературной биографии, опасаясь – не без оснований, – что интерес к его поэзии подменяется интересом к личным аспектам жизни и стихи будут казаться всего лишь плоским вариантом автобиографии. И то, что в последние годы жизни он часами – под магнитофон – рассказывал о себе увлеченно и, казалось бы, весьма откровенно, представляется противоречащим резко выраженной антибиографической позиции. Но это ложное противоречие. Бродский не совершал случайных поступков. Когда Ахматова говорила, что власти делают «рыжему» биографию, она была права только отчасти. Бродский принимал в «делании» своей биографии самое непосредственное и вполне осознанное участие, несмотря на всю юношескую импульсивность и кажущуюся бессистемность поведения. И в этом отношении, как и во многих других, он чрезвычайно схож с Пушкиным. Большинством своих современников Пушкин, как известно, воспринимался как романтический поэт, поведение которого определяется исключительно порывами поэтической натуры. Но близко знавший Пушкина умный Соболевский писал в 1852 году Шевыреву, опровергая этот расхожий взгляд: «Пушкин столь же умен, сколь практичен; он практик, и большой практик». Речь не идет о демонстративном жизнетворчестве байронического типа или образца Серебряного века. Речь идет об осознанной стратегии, об осознанном выборе судьбы, а не просто жизненного стиля. В 1833 году, в критический момент жизни, Пушкин начал вести дневник, цель которого была – не в последнюю очередь – объяснить выбранный им стиль поведения после 26-го года и причины изменения этого стиля. Пушкин объяснялся с потомками, понимая, что его поступки будут толковаться и перетолковываться. Он предлагал некий путеводитель. Есть основания предполагать, что диалоги с Волковым под магнитофон, которые – как Бродский прекрасно понимал – в конечном итоге предназначались для печати, выполняли ту же функцию. Бродский предлагал свой вариант духовной и бытовой биографии в наиболее важных и дающих повод для вольных интерпретаций моментах. В «Диалогах» крайне значимые проговорки на эту тему. «У каждой эпохи, каждой культуры есть своя версия прошлого», – говорит Бродский. За этим стоит: у каждого из нас есть своя версия собственного прошлого. И здесь, возвращаясь к записям А.К. Гладкова, нужно сказать, что Пастернак явно подобной цели не преследовал. Это был совершенно вольный разговор на интеллектуальные темы, происходивший в страшные дни мировой войны в российском захолустье. В монологах Пастернака нет системной устремленности Бродского, осознания программности сказанного, ощущения подводимого итога. И отсутствовал магнитофон – что психологически крайне существенно. «Диалоги» нельзя воспринимать как абсолютный источник для жизнеописания Бродского. При том, что они содержат гигантское количество фактического материала, они являются и откровенным вызовом будущим исследователям, ибо собеседник Волкова менее всего мечтает стать безропотным «достоянием доцента». Он воспроизводит прошлое как художественный текст, отсекая лишнее – по его мнению, – выявляя не букву, но дух событий, а когда в этом есть надобность, и конструируя ситуации. Это не обман – это творчество, мифотворчество. Перед нами – в значительной степени – автобиографический миф. Но ценность «Диалогов» от этого не уменьшается, а увеличивается. Выяснить те или иные бытовые обстоятельства, в конце концов, по силам старательным и профессиональным исследователям. Реконструировать представление о событиях, точку зрения самого героя невозможно без его помощи. В «Диалогах» выявляется самопредставление, самовосприятие
Бродского. «Диалоги», условно говоря, состоят из двух пластов. Один – чисто интеллектуальный, культурологический, философический, если угодно. Это беседы о Цветаевой, Одене, Фросте. Это важнейшие фрагменты духовной биографии Бродского, не подлежащие критическому комментарию. Лишь иногда, когда речь заходит о реальной истории, суждения Бродского нуждаются в корректировке, так как он решительно предлагает свое представление о событиях вместо самих событий. Это, например, разговор о Петре I. «В сознании Петра Великого существовало два направления – Север и Запад. Больше никаких. Восток его не интересовал. Его даже Юг особо не интересовал…» Но в геополитической концепции Петра Юго-Восток играл не меньшую роль, чем Северо-Запад. Вскоре после полтавской победы он предпринял довольно рискованный Прутский поход против Турции, едва не кончившийся катастрофой. Сразу после окончания двадцатилетней Северной войны Петр начинает Персидский поход, готовя прорыв в сторону Индии – на Восток (с чего, собственно, началась Кавказская война). И так далее. Это, однако, достаточно редкий случай. Когда речь шла о реальности объективной, внешней – в любых ее ипостасях, если она не касается непосредственно его жизни, – Бродский вполне корректен в обращении с фактами. Ситуация меняется, когда мы попадаем во второй слой «Диалогов», условно говоря, автобиографический. Здесь будущим биографам поэта придется изрядно потрудиться, чтобы объяснить потомкам, скажем, почему Бродский повествует о полутора годах северной своей ссылки как о пустынном отшельничестве, как о пространстве, населенном только жителями села Норенское, не упоминая многочисленных гостей. Но пожалуй, наиболее выразительным примером художественного конструирования события стало описание суда 1964 года. Вся эта ситуация принципиально важна, ибо демонстрирует не только отношение Бродского к этому внешне наиболее драматическому моменту его жизни, но объясняет экзистенциальную установку зрелого Бродского по отношению к событиям внешней жизни. Отвечая на вопросы Волкова о ходе суда, он утверждает, что Фриду Вигдорову, сохранившую в записи происходивший там злобный абсурд, рано вывели из зала и потому запись ее принципиально не полна. Вигдорова, однако, присутствовала в зале суда на протяжении всех пяти часов, и, хотя в какой-то момент – достаточно отдаленный от начала – судья запретил ей вести запись, Вигдорова с помощью еще нескольких свидетелей восстановила ход процесса до самого конца. Все это Бродский мог вспомнить. Но дело в том, что он был категорически против того, чтобы события ноября 1963-го – марта 1964 года рассматривались как определяющие в его судьбе. И был совершенно прав. К этому времени уже был очевиден масштаб его дарования, и вне зависимости от того, появились бы в его жизни травля, суд, ссылка или не появились, он все равно остался бы в русской и мировой культуре. Бродский сознавал это, и его подход к происшедшему многое объясняет в его зрелом мировидении. «Я отказываюсь все это драматизировать!» – резко отвечает он Волкову. На что следует идеально точная реплика Волкова: «Я понимаю, это часть вашей эстетики». Здесь ключ. Изложение событий так, как они выглядели в действительности, ретроспективно отдавало бы мелодрамой. Но Бродский девяностых резко поднимает уровень представления о драматичности по сравнению с шестидесятыми, и то, что тогда казалось высокой драмой, оказывается гораздо ниже этого уровня. Истинная драма переносится в иные сферы. Восприятие Бродским конкретной картины суда трансформировалось вместе с его эстетическими и философскими установками, вместе с его стилистикой в ее не просто литературном, но экзистенциальном плане. И прошлое должно соответствовать этой новой стилистике даже фактологически. «Диалоги» не столько информируют – хотя конкретный биографический материал в них содержится огромный, – сколько провоцируют догадки совсем иного рода. Рассказывая о возникновении идеи книги «Новые стансы к Августе», Бродский вдруг говорит: «К сожалению, я не написал «Божественной комедии». И, видимо, уже никогда не напишу». Затем следует обмен репликами по поводу эпичности поздней поэзии Бродского и отсутствии при этом в ее составе «монументального романа в стихах». Бродский иронически вспоминает «Шествие» и как образец монументальной формы – «Горбунова и Горчакова», вещь, которая представляется ему произведением чрезвычайно серьезным. «А что касается «Комедии Дивины»… ну, не знаю, но, видимо, нет – уже не напишу. Если бы я жил в России, дома, – тогда…» И дальше всплывает у Волкова слово «изгнание» – намек на то, что именно в изгнании Данте написал «Божественную комедию», и тень Данте витает над финалом «Диалогов». Во всем этом чувствуется какая-то недоговоренность… «Величие замысла» – вариант известного высказывания Пушкина о плане «Божественной комедии» – было любимым словосочетанием молодого Бродского, о чем ему не раз напоминала в письмах Ахматова. И написать свою «Комедию Дивину» он пробовал. В пятилетие – с 1963-го по 1968 год – Бродский предпринял попытку, которую можно сравнить по величию замысла и по сложности расшифровки разве что с пророческими поэмами Уильяма Блейка, которого Бродский внимательно читал в шестидесятые годы. (Однотомник Блейка – английский оригинал – находился в его библиотеке.) Это был цикл «больших стихотворений» – «Большая элегия Джону Донну», «Исаак и Авраам», «Столетняя война», «Пришла зима…», «Горбунов и Горчаков». Это единое грандиозное эпическое пространство, объединенное общей метрикой, сквозными образами-символами – птицы, звезды, снег, море, – общими структурными приемами и, главное, общим религиозно-философским фундаментом. Как и у Блейка – это еретический эпос. Но и «Божественная комедия» родилась в контексте сектантских еретических утопий. Рай и Ад присутствуют в эпосе Бродского. В неопубликованной «Столетней войне» есть потрясающее описание подземного царства, где «Корни – звезды, черви – облака», «где воет Тартар страшно» и откуда вырывается зловещий ангел – птица раздора3
Таков фон разговора о ненаписанной «Божественной комедии», такова и глубинная тематика многих диалогов книги. Монологи и диалоги о Цветаевой, Мандельштаме, Пастернаке, Одене, Фросте, быть может, в большей степени автобиографичны, чем иронический рассказ о собственной жизни. И ни один исследователь жизни и творчества Бродского не может отныне обойтись без этой книги. Яков Гордин
Гзелль
Поль.
Соображения о пяти «больших стихотворениях» как о едином эпическом пространстве были высказаны автором этого предисловия в 1995 году (Russian Literature XXXVII, North-Holland) и прочитаны И. Бродским – возражений не последовало.
Вместо вступления
Начальным импульсом для книги «Диалоги с Иосифом Бродским» стали лекции, читанные поэтом в Колумбийском университете (Нью-Йорк) осенью 1978 года. Он комментировал тогда для американских студентов своих любимых поэтов: Цветаеву, Ахматову, Роберта Фроста, У.Х.Одена.
Отдельные главы публиковались еще при жизни Бродского. Предполагалось, что завершающий раздел книги будет посвящен впечатлениям от новой встречи поэта с Россией, с его родным Питером. Не получилось…
Жанр «разговора» особый. Сравнительно давно укоренившийся на Западе, в России он пока не привился. Классическая книга Лидии Чуковской об Анне Ахматовой, при всей ее документальности, есть все же в первую очередь дневник самой Чуковской.
Русский читатель к «разговорам» со своими поэтами не привык. Причин на то много. Одна из них – поздняя профессионализация литературы на Руси. К поэту прислушивались, но его не уважали.
Эккерман свои знаменитые «Разговоры с Гете» издал в 1836 году; на следующий год некролог Пушкина, в котором было сказано, что поэт «скончался в середине своего великого поприща», вызвал гнев русского министра просвещения: «Помилуйте, за что такая честь? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки не значит еще проходить великое поприще».
Ситуация стала меняться к началу XX века с появлением массового рынка для стихов. Но было поздно – пришла революция; с ней все и всяческие разговоры укрылись в глухое подполье. И хотя звукозапись уже существовала, не осталось записанных на магнитофон бесед ни с Пастернаком, ни с Заболоцким, ни с Ахматовой.
Между тем на Западе жанр диалога процветает. Родоначальник его, «Разговоры с Гете», все еще стоит особняком. Другая вершина – пять книг бесед со Стравинским, изданных Робертом Крафтом в сравнительно недавние годы; эта блестящая серия заметно повлияла на наши культурные вкусы.
Откристаллизовалась и эстетика жанра. Тут можно назвать «Разговоры беженцев» Брехта и некоторые пьесы Беккета и Ионеско. Успех фильма Луи Малля «Обед с Андре», целиком построенного на разговоре двух реально существующих лиц, показал, что и сравнительно широкой публике этот прием интересен.
Внимательный читатель заметит, что каждый разговор с Бродским тоже строился как своего рода пьеса – с завязкой, подводными камнями конфликтов, кульминацией и финалом.
Соломон Волков
Глава 1
Детство и юность в Ленинграде: лето 1981 – зима 1992
Волков : Вы родились в мае 1940 года, то есть за год с небольшим до нападения армии Гитлера на Россию. Помните ли вы блокаду Ленинграда, которая началась в сентябре 1941 года?
Бродский : Одну сцену я помню довольно хорошо. Мать тащит меня на саночках по улицам, заваленным снегом. Вечер, лучи прожекторов шарят по небу. Мать протаскивает меня мимо пустой булочной. Это около Спасо-Преображенского собора, недалеко от нашего дома. Это и есть детство.
Волков : Вы помните, что взрослые говорили о блокаде? Насколько я понимаю, ленинградцы старались избегать этой темы. С одной стороны, тяжело было обсуждать все эти невероятные мучения. С другой стороны, это не поощрялось властями. То есть блокада была полузапретной темой.
Бродский : У меня такого ощущения не было. Помню, как мать говорила, кто как умер из знакомых, кого и как находили в квартирах – уже мертвыми. Когда отец вернулся с фронта, мать с ним часто говорила об этом. Обсуждали, кто где был в блокаду.
Волков : А о людоедстве в осажденном Ленинграде говорили? Эта тема была, пожалуй, самой страшной и запретной; о ней говорить боялись, – но, с другой стороны, трудно было ее обойти…
Бродский : Да, говорили и о людоедстве. Нормально. А отец вспоминал прорыв блокады в начале 1943 года – он ведь в нем участвовал. А полностью блокаду сняли еще через год.
Волков : Вы ведь были эвакуированы из Ленинграда?
Бродский : На короткий срок, меньше года, в Череповец.
Волков : А возвращение из эвакуации в Ленинград вы помните?
Бродский : Очень хорошо помню. С возвращением из Череповца связано одно из самых ужасных воспоминаний детства. На железнодорожной станции толпа осаждала поезд. Когда он уже тронулся, какой-то старик-инвалид ковылял за составом, все еще пытаясь влезть в вагон. А его оттуда поливали кипятком. Такая вот сцена из спектакля «Великое переселение народов».
Волков : А ваши эмоции по поводу Дня Победы в 1945 году вы помните?
Бродский : Мы с мамой пошли смотреть праздничный салют. Стояли в огромной толпе на берегу Невы у Литейного моста. Но эмоций своих абсолютно не помню. Ну какие там эмоции? Мне ведь было всего пять лет.
Волков : В каком районе Ленинграда вы родились?
Бродский : Кажется, на Петроградской стороне. А рос главным образом на улице Рылеева. Во время войны отец был в армии. Мать, между прочим, тоже была в армии – переводчицей в лагере для немецких военнопленных. А в конце войны мы уехали в Череповец.
Волков : И вернулись потом на то же место?
Бродский : Да, в ту же комнату. Поначалу мы нашли ее опечатанной. Пошли всякие склоки, война с начальством, оперуполномоченным. Потом нам эту комнату вернули. Собственно говоря, у нас было две комнаты. Одна у матери на улице Рылеева, а другая у отца на проспекте Газа, на углу этого проспекта и Обводного канала. И, собственно, детство я провел между этими двумя точками.
Волков : В ваших стихах, практически с самого начала, очень нетрадиционный взгляд на Петербург. Это как-то связано с географией вашего детства?
Бродский : Что вы имеете в виду?
Волков : Уже в ваших ранних стихах Петербург – не музей, а город рабочих окраин.
Бродский : Где вы нашли такое?
Волков : Да хотя бы, к примеру, ваше стихотворение «От окраины к центру», написанное, когда вам было чуть больше двадцати. Вы там описываете Ленинград как «полуостров заводов, парадиз мастерских и аркадию фабрик».
Бродский : Да, это Малая Охта! Действительно, есть у меня стихотворение, которое описывает индустриальный Ленинград! Это поразительно, но я совершенно забыл об этом! Вы знаете, я не в состоянии говорить про свои собственные стихи, потому что не очень хорошо их помню.
Волков : Это стихотворение для своего времени было, пожалуй, революционным. Потому что оно заново открывало официально как бы несуществующую – по крайней мере, в поэзии – сторону Ленинграда. Кстати, как вы предпочитали называть этот город – Ленинградом, Петербургом?
Бродский : Пожалуй, Питером. И для меня Питер – это и дворцы, и каналы. Но, конечно, мое детство предрасположило меня к острому восприятию индустриального пейзажа. Я помню ощущение этого огромного пространства, открытого, заполненного какими-то не очень значительными, но все же торчащими сооружениями…
Волков : Трубы…
Бродский : Да, трубы, все эти только еще начинающиеся новостройки, зрелище Охтинского химкомбината. Вся эта поэтика нового времени…
Волков : Как раз можно сказать, что это скорее против поэтики нового, то есть советского, времени. Потому что задворки Петербурга тогда просто перестали изображать. Когда-то это делал Мстислав Добужинский…
«Своя версия прошлого…»
«Диалоги с Бродским» – книга для русской литературной культуры уникальная. Сам Волков пишет в авторском предисловии об экзотичности для России этого жанра, важность которого, однако, очевидна. Единственный известный автору этих страниц прямой аналог – записи обширных разговоров с Пастернаком – блестящая работа Александра Константиновича Гладкова. Но она, как мы увидим, принципиально отлична от «Диалогов».
В предисловии к «Разговорам с Гете» Эккермана – неизбежно возникающая параллель, подчеркнутая Волковым в названии, – В.Ф. Асмус писал: «От крупных мастеров остаются произведения, дневники, переписка. Остаются и воспоминания современников: друзей, врагов и просто знакомых… Но редко бывает, чтобы в этих материалах и записях сохранился на длительном протяжении след живых бесед и диалогов, споров и поучений. Из всех проявлений крупной личности, которые создают ее значение для современников и потомков, слово, речь, беседа – наиболее эфемерные и преходящие. В дневники попадают события, мысли, но редко диалоги. Самые блистательные речи забываются, самые остроумные изречения безвозвратно утрачиваются… Во всем услышанном они (мемуаристы. – Я.Г .) произведут, быть может, незаметно для самого собеседника, отбор, исключение, перестановку и – что самое главное – перетолкование материала. <<…>> Что уцелело от бесед Пушкина, Тютчева, Байрона, Оскара Уайльда? А между тем современники согласно свидетельствуют, что в жизни этих художников беседа была одной из важнейших форм существования их гения» . В русской культуре существует также феномен Чаадаева, самовыражение, творчество которого в течение многих лет после катастрофы, вызванной публикацией одного из «Философических писем», происходило именно в форме публичной беседы. Судьба разговоров Пушкина подтверждает мысль Асмуса – все попытки задним числом реконструировать его блестящие устные импровизации не дали сколько-нибудь заметного результата.
Но существо проблемы понимали не только теоретики, но и практики. Поль Гзелль, выпустивший книгу «Беседы Анатоля Франса», писал: «Превосходство великих людей не всегда проявляется в их наиболее обработанных произведениях. Едва ли не чаще оно узнается в непосредственной и свободной игре их мысли. То, под чем они и не думают ставить свое имя, что они создают интенсивным порывом мысли, давно созревшие, падающие непроизвольно, само собой, – вот нередко лучшие произведения их гения» .
Но как бы высока ни была ценность книги «Разговоры с Гете», сам Асмус признает: «И все же «Разговоры» воссоздают перед читателем образ всего лишь эккермановского Гете. Ведь интерпретация… остается все же интерпретацией».
«Диалоги с Бродским» – явление принципиально иного характера. Наличие магнитофона исключает фактор даже непредумышленной интерпретации. Перед читателем не волковский Бродский, но Бродский как таковой. Ответственность за все сказанное – на нем самом.
При этом Волков отнюдь не ограничивает себя функцией включения и выключения магнитофона. Он искусно направляет разговор, не влияя при этом на характер сказанного собеседником. Его задача – определить круг стратегических тем, а внутри каждой темы он отводит себе роль интеллектуального провокатора. Кроме того – и это принципиально! – в отличие от Эккермана и Гзелля Волков старается получить и чисто биографическую информацию.
Однако все же главное – не задача, которую ставит перед собой Волков, – она понятна, – а задача, решаемая Бродским.
Несмотря на огромное количество интервью поэта и его публичные лекции, Бродский как личность оставался достаточно закрытым, ибо все это не составляло системы, объясняющей судьбу.
Известно, что в последние годы Бродский крайне болезненно и раздраженно относился к самой возможности изучения его, так сказать, внелитературной биографии, опасаясь – не без оснований, – что интерес к его поэзии подменяется интересом к личным аспектам жизни и стихи будут казаться всего лишь плоским вариантом автобиографии. И то, что в последние годы жизни он часами – под магнитофон – рассказывал о себе увлеченно и, казалось бы, весьма откровенно, представляется противоречащим резко выраженной антибиографической позиции.
Но это ложное противоречие. Бродский не совершал случайных поступков. Когда Ахматова говорила, что власти делают «рыжему» биографию, она была права только отчасти. Бродский принимал в «делании» своей биографии самое непосредственное и вполне осознанное участие, несмотря на всю юношескую импульсивность и кажущуюся бессистемность поведения. И в этом отношении, как и во многих других, он чрезвычайно схож с Пушкиным.
Большинством своих современников Пушкин, как известно, воспринимался как романтический поэт, поведение которого определяется исключительно порывами поэтической натуры. Но близко знавший Пушкина умный Соболевский писал в 1852 году Шевыреву, опровергая этот расхожий взгляд: «Пушкин столь же умен, сколь практичен; он практик, и большой практик».
Речь не идет о демонстративном жизнетворчестве байронического типа или образца Серебряного века. Речь идет об осознанной стратегии, об осознанном выборе судьбы, а не просто жизненного стиля.
В 1833 году, в критический момент жизни, Пушкин начал вести дневник, цель которого была – не в последнюю очередь – объяснить выбранный им стиль поведения после 26-го года и причины изменения этого стиля. Пушкин объяснялся с потомками, понимая, что его поступки будут толковаться и перетолковываться. Он предлагал некий путеводитель.
Есть основания предполагать, что диалоги с Волковым под магнитофон, которые – как Бродский прекрасно понимал – в конечном итоге предназначались для печати, выполняли ту же функцию. Бродский предлагал свой вариант духовной и бытовой биографии в наиболее важных и дающих повод для вольных интерпретаций моментах.
В «Диалогах» крайне значимые проговорки на эту тему. «У каждой эпохи, каждой культуры есть своя версия прошлого», – говорит Бродский. За этим стоит: у каждого из нас есть своя версия собственного прошлого. И здесь, возвращаясь к записям А.К. Гладкова, нужно сказать, что Пастернак явно подобной цели не преследовал. Это был совершенно вольный разговор на интеллектуальные темы, происходивший в страшные дни мировой войны в российском захолустье. В монологах Пастернака нет системной устремленности Бродского, осознания программности сказанного, ощущения подводимого итога. И отсутствовал магнитофон – что психологически крайне существенно.
«Диалоги» нельзя воспринимать как абсолютный источник для жизнеописания Бродского. При том, что они содержат гигантское количество фактического материала, они являются и откровенным вызовом будущим исследователям, ибо собеседник Волкова менее всего мечтает стать безропотным «достоянием доцента». Он воспроизводит прошлое как художественный текст, отсекая лишнее – по его мнению, – выявляя не букву, но дух событий, а когда в этом есть надобность, и конструируя ситуации. Это не обман – это творчество, мифотворчество. Перед нами – в значительной степени – автобиографический миф. Но ценность «Диалогов» от этого не уменьшается, а увеличивается. Выяснить те или иные бытовые обстоятельства, в конце концов, по силам старательным и профессиональным исследователям. Реконструировать представление о событиях, точку зрения самого героя невозможно без его помощи.
В «Диалогах» выявляется самопредставление, самовосприятие Бродского.
«Диалоги», условно говоря, состоят из двух пластов. Один – чисто интеллектуальный, культурологический, философический, если угодно. Это беседы о Цветаевой, Одене, Фросте. Это важнейшие фрагменты духовной биографии Бродского, не подлежащие критическому комментарию. Лишь иногда, когда речь заходит о реальной истории, суждения Бродского нуждаются в корректировке, так как он решительно предлагает свое представление о событиях вместо самих событий.
Это, например, разговор о Петре I. «В сознании Петра Великого существовало два направления – Север и Запад. Больше никаких. Восток его не интересовал. Его даже Юг особо не интересовал…»
Но в геополитической концепции Петра Юго-Восток играл не меньшую роль, чем Северо-Запад. Вскоре после полтавской победы он предпринял довольно рискованный Прутский поход против Турции, едва не кончившийся катастрофой. Сразу после окончания двадцатилетней Северной войны Петр начинает Персидский поход, готовя прорыв в сторону Индии – на Восток (с чего, собственно, началась Кавказская война). И так далее.
Это, однако, достаточно редкий случай. Когда речь шла о реальности объективной, внешней – в любых ее ипостасях, если она не касается непосредственно его жизни, – Бродский вполне корректен в обращении с фактами.
Ситуация меняется, когда мы попадаем во второй слой «Диалогов», условно говоря, автобиографический.
Здесь будущим биографам поэта придется изрядно потрудиться, чтобы объяснить потомкам, скажем, почему Бродский повествует о полутора годах северной своей ссылки как о пустынном отшельничестве, как о пространстве, населенном только жителями села Норенское, не упоминая многочисленных гостей.
Но пожалуй, наиболее выразительным примером художественного конструирования события стало описание суда 1964 года. Вся эта ситуация принципиально важна, ибо демонстрирует не только отношение Бродского к этому внешне наиболее драматическому моменту его жизни, но объясняет экзистенциальную установку зрелого Бродского по отношению к событиям внешней жизни. Отвечая на вопросы Волкова о ходе суда, он утверждает, что Фриду Вигдорову, сохранившую в записи происходивший там злобный абсурд, рано вывели из зала и потому запись ее принципиально не полна. Вигдорова, однако, присутствовала в зале суда на протяжении всех пяти часов, и, хотя в какой-то момент – достаточно отдаленный от начала – судья запретил ей вести запись, Вигдорова с помощью еще нескольких свидетелей восстановила ход процесса до самого конца. Все это Бродский мог вспомнить. Но дело в том, что он был категорически против того, чтобы события ноября 1963-го – марта 1964 года рассматривались как определяющие в его судьбе. И был совершенно прав. К этому времени уже был очевиден масштаб его дарования, и вне зависимости от того, появились бы в его жизни травля, суд, ссылка или не появились, он все равно остался бы в русской и мировой культуре. Бродский сознавал это, и его подход к происшедшему многое объясняет в его зрелом мировидении. «Я отказываюсь все это драматизировать!» – резко отвечает он Волкову. На что следует идеально точная реплика Волкова: «Я понимаю, это часть вашей эстетики». Здесь ключ. Изложение событий так, как они выглядели в действительности, ретроспективно отдавало бы мелодрамой. Но Бродский девяностых резко поднимает уровень представления о драматичности по сравнению с шестидесятыми, и то, что тогда казалось высокой драмой, оказывается гораздо ниже этого уровня. Истинная драма переносится в иные сферы.
Восприятие Бродским конкретной картины суда трансформировалось вместе с его эстетическими и философскими установками, вместе с его стилистикой в ее не просто литературном, но экзистенциальном плане. И прошлое должно соответствовать этой новой стилистике даже фактологически.
«Диалоги» не столько информируют – хотя конкретный биографический материал в них содержится огромный, – сколько провоцируют догадки совсем иного рода. Рассказывая о возникновении идеи книги «Новые стансы к Августе», Бродский вдруг говорит: «К сожалению, я не написал «Божественной комедии». И, видимо, уже никогда не напишу». Затем следует обмен репликами по поводу эпичности поздней поэзии Бродского и отсутствии при этом в ее составе «монументального романа в стихах». Бродский иронически вспоминает «Шествие» и как образец монументальной формы – «Горбунова и Горчакова», вещь, которая представляется ему произведением чрезвычайно серьезным. «А что касается «Комедии Дивины»… ну, не знаю, но, видимо, нет – уже не напишу. Если бы я жил в России, дома, – тогда…» И дальше всплывает у Волкова слово «изгнание» – намек на то, что именно в изгнании Данте написал «Божественную комедию», и тень Данте витает над финалом «Диалогов». Во всем этом чувствуется какая-то недоговоренность… «Величие замысла» – вариант известного высказывания Пушкина о плане «Божественной комедии» – было любимым словосочетанием молодого Бродского, о чем ему не раз напоминала в письмах Ахматова. И написать свою «Комедию Дивину» он пробовал. В пятилетие – с 1963-го по 1968 год – Бродский предпринял попытку, которую можно сравнить по величию замысла и по сложности расшифровки разве что с пророческими поэмами Уильяма Блейка, которого Бродский внимательно читал в шестидесятые годы. (Однотомник Блейка – английский оригинал – находился в его библиотеке.)
Это был цикл «больших стихотворений» – «Большая элегия Джону Донну», «Исаак и Авраам», «Столетняя война», «Пришла зима…», «Горбунов и Горчаков». Это единое грандиозное эпическое пространство, объединенное общей метрикой, сквозными образами-символами – птицы, звезды, снег, море, – общими структурными приемами и, главное, общим религиозно-философским фундаментом. Как и у Блейка – это еретический эпос. Но и «Божественная комедия» родилась в контексте сектантских еретических утопий. Рай и Ад присутствуют в эпосе Бродского. В неопубликованной «Столетней войне» есть потрясающее описание подземного царства, где «Корни – звезды, черви – облака», «где воет Тартар страшно» и откуда вырывается зловещий ангел – птица раздора .
Таков фон разговора о ненаписанной «Божественной комедии», такова и глубинная тематика многих диалогов книги.
Монологи и диалоги о Цветаевой, Мандельштаме, Пастернаке, Одене, Фросте, быть может, в большей степени автобиографичны, чем иронический рассказ о собственной жизни. И ни один исследователь жизни и творчества Бродского не может отныне обойтись без этой книги.
Вместо вступления
Начальным импульсом для книги «Диалоги с Иосифом Бродским» стали лекции, читанные поэтом в Колумбийском университете (Нью-Йорк) осенью 1978 года. Он комментировал тогда для американских студентов своих любимых поэтов: Цветаеву, Ахматову, Роберта Фроста, У.Х.Одена.
Отдельные главы публиковались еще при жизни Бродского. Предполагалось, что завершающий раздел книги будет посвящен впечатлениям от новой встречи поэта с Россией, с его родным Питером. Не получилось…
Жанр «разговора» особый. Сравнительно давно укоренившийся на Западе, в России он пока не привился. Классическая книга Лидии Чуковской об Анне Ахматовой, при всей ее документальности, есть все же в первую очередь дневник самой Чуковской.
Русский читатель к «разговорам» со своими поэтами не привык. Причин на то много. Одна из них – поздняя профессионализация литературы на Руси. К поэту прислушивались, но его не уважали.
Эккерман свои знаменитые «Разговоры с Гете» издал в 1836 году; на следующий год некролог Пушкина, в котором было сказано, что поэт «скончался в середине своего великого поприща», вызвал гнев русского министра просвещения: «Помилуйте, за что такая честь? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки не значит еще проходить великое поприще».
Ситуация стала меняться к началу XX века с появлением массового рынка для стихов. Но было поздно – пришла революция; с ней все и всяческие разговоры укрылись в глухое подполье. И хотя звукозапись уже существовала, не осталось записанных на магнитофон бесед ни с Пастернаком, ни с Заболоцким, ни с Ахматовой.
Между тем на Западе жанр диалога процветает. Родоначальник его, «Разговоры с Гете», все еще стоит особняком. Другая вершина – пять книг бесед со Стравинским, изданных Робертом Крафтом в сравнительно недавние годы; эта блестящая серия заметно повлияла на наши культурные вкусы.
Откристаллизовалась и эстетика жанра. Тут можно назвать «Разговоры беженцев» Брехта и некоторые пьесы Беккета и Ионеско. Успех фильма Луи Малля «Обед с Андре», целиком построенного на разговоре двух реально существующих лиц, показал, что и сравнительно широкой публике этот прием интересен.
Внимательный читатель заметит, что каждый разговор с Бродским тоже строился как своего рода пьеса – с завязкой, подводными камнями конфликтов, кульминацией и финалом.
Соломон Волков
Глава 1
Детство и юность в Ленинграде: лето 1981 – зима 1992
Волков : Вы родились в мае 1940 года, то есть за год с небольшим до нападения армии Гитлера на Россию. Помните ли вы блокаду Ленинграда, которая началась в сентябре 1941 года?
Бродский : Одну сцену я помню довольно хорошо. Мать тащит меня на саночках по улицам, заваленным снегом. Вечер, лучи прожекторов шарят по небу. Мать протаскивает меня мимо пустой булочной. Это около Спасо-Преображенского собора, недалеко от нашего дома. Это и есть детство.
Волков : Вы помните, что взрослые говорили о блокаде? Насколько я понимаю, ленинградцы старались избегать этой темы. С одной стороны, тяжело было обсуждать все эти невероятные мучения. С другой стороны, это не поощрялось властями. То есть блокада была полузапретной темой.
Бродский : У меня такого ощущения не было. Помню, как мать говорила, кто как умер из знакомых, кого и как находили в квартирах – уже мертвыми. Когда отец вернулся с фронта, мать с ним часто говорила об этом. Обсуждали, кто где был в блокаду.
Волков : А о людоедстве в осажденном Ленинграде говорили? Эта тема была, пожалуй, самой страшной и запретной; о ней говорить боялись, – но, с другой стороны, трудно было ее обойти…
Бродский : Да, говорили и о людоедстве. Нормально. А отец вспоминал прорыв блокады в начале 1943 года – он ведь в нем участвовал. А полностью блокаду сняли еще через год.
Волков : Вы ведь были эвакуированы из Ленинграда?
Бродский : На короткий срок, меньше года, в Череповец.
Волков : А возвращение из эвакуации в Ленинград вы помните?
Бродский : Очень хорошо помню. С возвращением из Череповца связано одно из самых ужасных воспоминаний детства. На железнодорожной станции толпа осаждала поезд. Когда он уже тронулся, какой-то старик-инвалид ковылял за составом, все еще пытаясь влезть в вагон. А его оттуда поливали кипятком. Такая вот сцена из спектакля «Великое переселение народов».
Волков : А ваши эмоции по поводу Дня Победы в 1945 году вы помните?
Бродский : Мы с мамой пошли смотреть праздничный салют. Стояли в огромной толпе на берегу Невы у Литейного моста. Но эмоций своих абсолютно не помню. Ну какие там эмоции? Мне ведь было всего пять лет.
Волков : В каком районе Ленинграда вы родились?
Бродский : Кажется, на Петроградской стороне. А рос главным образом на улице Рылеева. Во время войны отец был в армии. Мать, между прочим, тоже была в армии – переводчицей в лагере для немецких военнопленных. А в конце войны мы уехали в Череповец.
Волков : И вернулись потом на то же место?
Бродский : Да, в ту же комнату. Поначалу мы нашли ее опечатанной. Пошли всякие склоки, война с начальством, оперуполномоченным. Потом нам эту комнату вернули. Собственно говоря, у нас было две комнаты. Одна у матери на улице Рылеева, а другая у отца на проспекте Газа, на углу этого проспекта и Обводного канала. И, собственно, детство я провел между этими двумя точками.
Волков : В ваших стихах, практически с самого начала, очень нетрадиционный взгляд на Петербург. Это как-то связано с географией вашего детства?
Бродский : Что вы имеете в виду?
Волков : Уже в ваших ранних стихах Петербург – не музей, а город рабочих окраин.
Бродский : Где вы нашли такое?
Волков : Да хотя бы, к примеру, ваше стихотворение «От окраины к центру», написанное, когда вам было чуть больше двадцати. Вы там описываете Ленинград как «полуостров заводов, парадиз мастерских и аркадию фабрик».
Бродский : Да, это Малая Охта! Действительно, есть у меня стихотворение, которое описывает индустриальный Ленинград! Это поразительно, но я совершенно забыл об этом! Вы знаете, я не в состоянии говорить про свои собственные стихи, потому что не очень хорошо их помню.
Волков : Это стихотворение для своего времени было, пожалуй, революционным. Потому что оно заново открывало официально как бы несуществующую – по крайней мере, в поэзии – сторону Ленинграда. Кстати, как вы предпочитали называть этот город – Ленинградом, Петербургом?
Бродский : Пожалуй, Питером. И для меня Питер – это и дворцы, и каналы. Но, конечно, мое детство предрасположило меня к острому восприятию индустриального пейзажа. Я помню ощущение этого огромного пространства, открытого, заполненного какими-то не очень значительными, но все же торчащими сооружениями…
Волков : Трубы…
Бродский : Да, трубы, все эти только еще начинающиеся новостройки, зрелище Охтинского химкомбината. Вся эта поэтика нового времени…
Волков : Как раз можно сказать, что это скорее против поэтики нового, то есть советского, времени. Потому что задворки Петербурга тогда просто перестали изображать. Когда-то это делал Мстислав Добужинский…
Бродский : Да, арт нуво!
Волков : А потом эта традиция практически прервалась. Ленинград – и в изобразительном искусстве, и в стихах – стал очень условным местом. А читающий ваше стихотворение тут же вспоминает реальный город, реальный пейзаж – его краски, запахи.
Бродский : Вы знаете, в этом стихотворении, насколько я сейчас помню, так много всего наложилось, что мне трудно об этом говорить. Одним словом или одной фразой этого ни в коем случае не выразить. На самом деле это стихи о пятидесятых годах в Ленинграде, о том времени, на которое выпала наша молодость. Там даже есть, буквально, отклик на появление узких брюк.
Волков : «…Возле брюк твоих вечношироких»?
Бродский : Да, совершенно верно. То есть это как бы попытка сохранить эстетику пятидесятых годов. Тут многое намешано, в том числе и современное кино – или то, что нам тогда представлялось современным кино.
Волков : Это стихотворение воспринимается как полемика с пушкинским «…Вновь я посетил…».
Бродский : Нет, это скорее перифраза. Но с первой же строчки все как бы ставится под сомнение, да? Я всегда торчал от индустриального пейзажа. В Ленинграде это как бы антитеза центра. Про этот мир, про эту часть города, про окраины действительно никто в то время не писал.
Волков : Ни вы, ни я Питер уже много лет не видели. И для меня лично Питер – вот эти стихи…
Бродский : Это очень трогательно с вашей стороны, но у меня эти стихи вызывают совершенно другие ассоциации.
Волков : Какие?
Бродский : Прежде всего воспоминания об общежитии Ленинградского университета, где я «пас» девушку в то время. Это и была Малая Охта. Я все время ходил туда пешком, а это далеко, между прочим. И вообще в этом стихотворении главное – музыка, то есть тенденция к такому метафизическому решению: есть ли в том, что ты видишь, что-либо важное, центральное? И я сейчас вспоминаю конец этого стихотворения – там есть одна мысль… Да ладно, неважно…
Волков : Вы имеете в виду строчку «Слава богу, что я на земле без отчизны остался»?
Бродский : Ну да…
Волков : Эти слова оказались пророческими. Как они у вас выскочили тогда, в 1962 году?
Бродский : Ну, это мысль об одиночестве… о непривязанности. Ведь в той, ленинградской, топографии – это все-таки очень сильный развод, колоссальная разница между центром и окраиной. И вдруг я понял, что окраина – это начало мира, а не его конец. Это конец привычного мира, но это начало непривычного мира, который, конечно, гораздо больше, огромней, да? И идея была в принципе такая: уходя на окраину, ты отдаляешься от всего на свете и выходишь в настоящий мир.
Волков : В этом я чувствую какое-то отталкивание от традиционного декоративного Петербурга.
Бродский : Я понимаю, что вы имеете в виду. Ну, во-первых, в Петербурге вся эта декоративность носит несколько безумный оттенок. И тем она интересна. А во-вторых, окраины тем больше мне по душе, что они дают ощущение простора. Мне кажется, в Петербурге самые сильные детские или юношеские впечатления связаны с этим необыкновенным небом и с какой-то идеей бесконечности. Когда эта перспектива открывается – она же сводит с ума. Кажется, что на том берегу происходит что-то совершенно замечательное.
Волков : Та же история с перспективами петербургских проспектов – кажется, что в конце этой длинной улицы…
Бродский : Да! И хотя ты знаешь всех, кто там живет, и все тебе известно заранее – все равно, когда ты смотришь, ничего не можешь с этим ощущением поделать. И особенно это впечатление сильно, когда смотришь, скажем, с Трубецкого бастиона Петропавловской крепости в сторону Новой Голландии вниз по течению и на тот берег. Там все эти краны, вся эта чертовщина.
Волков : Страна Александра Блока…
Бродский : Да, это то, от чего балдел Блок. Ведь он балдел от петербургских закатов, да? И предрекал то-се, пятое-десятое. На самом деле главное – не в цвете заката, а в перспективе, в ощущении бесконечности, да? Бесконечности и, в общем, какой-то неизвестности. И Блок, на мой взгляд, со всеми своими апокалиптическими видениями пытался все это одомашнить. Я не хочу о Блоке говорить ничего дурного, но это, в общем, банальное решение петербургского феномена. Банальная интерпретация пространства.
Волков : Эта любовь к окраинам связана, быть может, и с вашим положением аутсайдера в советском обществе? Ведь вы не пошли по протоптанному пути интеллектуала: после школы – университет, потом приличная служба и т. д. Почему так получилось? Почему вы ушли из школы, недоучившись?
Бродский : Это получилось как-то само собой.
Волков : А где находилась ваша школа?
Бродский : О, их было столько!
Волков : Вы их меняли?
Бродский : Да, как перчатки.
Волков : А почему?
Бродский : Отчасти потому, что я жил то с отцом, то с матерью. Больше с матерью, конечно. Я сейчас уже путаюсь во всех этих номерах, но сначала я учился в школе, если не ошибаюсь, номер 203, бывшей «Петершуле». До революции это было немецкое училище. И в числе воспитанников были многие довольно-таки замечательные люди. Но в наше время это была обыкновенная советская школа. После четвертого класса почему-то оказалось, что мне оттуда надо уходить – какое-то серафическое перераспределение, связанное с тем, что я оказался принадлежащим к другому микрорайону. И я перешел в 196-ю школу на Моховой. Там опять что-то произошло, я уже не помню что, и после трех классов пришлось мне перейти в 181-ю школу. Там я проучился год, это седьмой класс был. К сожалению, я остался на второй год. И, оставшись на второй год, мне было как-то солоно ходить в ту же самую школу. Поэтому я попросил родителей перевести меня в школу по месту жительства отца, на Обводном канале. Тут для меня настали замечательные времена, потому что в этой школе был совершенно другой контингент – действительно рабочий класс, дети рабочих.
Волков : Вы почувствовали себя среди своих?
Бродский : Да, ощущение было совершенно другое. Потому что мне опротивела эта полуинтеллигентная шпана. Не то чтобы у меня тогда были какие-то классовые чувства, но в этой новой школе все было просто. А после седьмого класса я попытался поступить во Второе Балтийское училище, где готовили подводников. Это потому, что папаша был во флоте и я, как всякий пацан, чрезвычайно торчал от всех этих вещей – знаете?
Волков : Погоны, кителя, кортики?
Бродский : Вот-вот! Вообще у меня по отношению к морскому флоту довольно замечательные чувства. Уж не знаю, откуда они взялись, но тут и детство, и отец, и родной город. Тут уж ничего не поделаешь! Как вспомню Военно-морской музей, Андреевский флаг – голубой крест на белом полотнище… Лучшего флага на свете вообще нет! Это я уже теперь точно говорю! Но ничего из этой моей попытки, к сожалению, не вышло.
Волков : А что помешало?
Бродский : Национальность, пятый пункт. Я сдал экзамены и прошел медицинскую комиссию. Но когда выяснилось, что я еврей, – уж не знаю, почему они это так долго выясняли, – они меня перепроверили. И вроде выяснилось, что с глазами лажа, астигматизм левого глаза. Хотя я не думаю, что это чему бы то ни было мешало. При том, кого они туда брали… В общем, погорел я на этом деле, ну, это неважно. В итоге я вернулся в школу на Моховую и проучился там год, но к тому времени мне все это порядком опротивело.
Волков : Ситуация в целом опротивела? Или сверстники? Или кто-нибудь из педагогов вас особенно доставал?
Бродский : Да, там был один замечательный преподаватель – кажется, он вел Сталинскую Конституцию. В школу он пришел из армии, армейский, бывший. То есть рожа – карикатура полная. Ну, как на Западе изображают советских: шляпа, пиджак, все квадратное и двубортное. Он меня действительно люто ненавидел. А все дело в том, что в школе он был секретарем парторганизации. И сильно портил мне жизнь. Тем и кончилось – я пошел работать фрезеровщиком на завод «Арсенал», почтовый ящик 671. Мне было тогда пятна-дцать лет.
Волков : Бросить школу – это довольно радикальное решение для ленинградского еврейского юноши. Как реагировали на него ваши родители?
Бродский : Ну, во-первых, они видели, что толку из меня все равно не получается. Во-вторых, я действительно хотел работать. А в семье просто не было башлей. Отец то работал, то не работал.
Волков : Почему?
Бродский : Время было такое, смутное. Гуталин только что врезал дуба. При Гуталине папашу выгнали из армии, потому что вышел ждановский указ, запрещавший евреям выше какого-то определенного звания быть на политработе, а отец был уже капитан третьего ранга, то есть майор.
Волков : А кто такой Гуталин?
Бродский : Гуталин – это Иосиф Виссарионович Сталин, он же Джугашвили. Ведь в Ленинграде все сапожники были айсоры.
Волков : В первый раз слышу такую кличку.
Бродский : А где вы жили всю жизнь, Соломон? В какой стране?
Волков : Когда умер Сталин, я жил в Риге.
Бродский : Тогда понятно. В Риге так, конечно, не говорили.
Волков : Кстати, разве в пятнадцать лет можно было работать? Разве это было разрешено?
Бродский : В некотором роде это было незаконно. Но вы должны понять, это был 1955 год, о какой бы то ни было законности речи не шло. А я вроде был парень здоровый.
Соображения о пяти «больших стихотворениях» как о едином эпическом пространстве были высказаны автором этого предисловия в 1995 году (Russian Literature XXXVII, North-Holland) и прочитаны И. Бродским – возражений не последовало.
«Диалоги с Бродским» – книга для русской литературной культуры уникальная. Сам Волков пишет в авторском предисловии об экзотичности для России этого жанра, важность которого, однако, очевидна. Единственный известный автору этих страниц прямой аналог – записи обширных разговоров с Пастернаком – блестящая работа Александра Константиновича Гладкова. Но она, как мы увидим, принципиально отлична от «Диалогов».
В предисловии к «Разговорам с Гете» Эккермана – неизбежно возникающая параллель, подчеркнутая Волковым в названии, – В.Ф. Асмус писал: «От крупных мастеров остаются произведения, дневники, переписка. Остаются и воспоминания современников: друзей, врагов и просто знакомых… Но редко бывает, чтобы в этих материалах и записях сохранился на длительном протяжении след живых бесед и диалогов, споров и поучений. Из всех проявлений крупной личности, которые создают ее значение для современников и потомков, слово, речь, беседа – наиболее эфемерные и преходящие. В дневники попадают события, мысли, но редко диалоги. Самые блистательные речи забываются, самые остроумные изречения безвозвратно утрачиваются… Во всем услышанном они (мемуаристы. – Я.Г .) произведут, быть может, незаметно для самого собеседника, отбор, исключение, перестановку и – что самое главное – перетолкование материала. <<…>> Что уцелело от бесед Пушкина, Тютчева, Байрона, Оскара Уайльда? А между тем современники согласно свидетельствуют, что в жизни этих художников беседа была одной из важнейших форм существования их гения» . В русской культуре существует также феномен Чаадаева, самовыражение, творчество которого в течение многих лет после катастрофы, вызванной публикацией одного из «Философических писем», происходило именно в форме публичной беседы. Судьба разговоров Пушкина подтверждает мысль Асмуса – все попытки задним числом реконструировать его блестящие устные импровизации не дали сколько-нибудь заметного результата.
Но существо проблемы понимали не только теоретики, но и практики. Поль Гзелль, выпустивший книгу «Беседы Анатоля Франса», писал: «Превосходство великих людей не всегда проявляется в их наиболее обработанных произведениях. Едва ли не чаще оно узнается в непосредственной и свободной игре их мысли. То, под чем они и не думают ставить свое имя, что они создают интенсивным порывом мысли, давно созревшие, падающие непроизвольно, само собой, – вот нередко лучшие произведения их гения» .
Но как бы высока ни была ценность книги «Разговоры с Гете», сам Асмус признает: «И все же «Разговоры» воссоздают перед читателем образ всего лишь эккермановского Гете. Ведь интерпретация… остается все же интерпретацией».
«Диалоги с Бродским» – явление принципиально иного характера. Наличие магнитофона исключает фактор даже непредумышленной интерпретации. Перед читателем не волковский Бродский, но Бродский как таковой. Ответственность за все сказанное – на нем самом.
При этом Волков отнюдь не ограничивает себя функцией включения и выключения магнитофона. Он искусно направляет разговор, не влияя при этом на характер сказанного собеседником. Его задача – определить круг стратегических тем, а внутри каждой темы он отводит себе роль интеллектуального провокатора. Кроме того – и это принципиально! – в отличие от Эккермана и Гзелля Волков старается получить и чисто биографическую информацию.
Однако все же главное – не задача, которую ставит перед собой Волков, – она понятна, – а задача, решаемая Бродским.
Несмотря на огромное количество интервью поэта и его публичные лекции, Бродский как личность оставался достаточно закрытым, ибо все это не составляло системы, объясняющей судьбу.
Известно, что в последние годы Бродский крайне болезненно и раздраженно относился к самой возможности изучения его, так сказать, внелитературной биографии, опасаясь – не без оснований, – что интерес к его поэзии подменяется интересом к личным аспектам жизни и стихи будут казаться всего лишь плоским вариантом автобиографии. И то, что в последние годы жизни он часами – под магнитофон – рассказывал о себе увлеченно и, казалось бы, весьма откровенно, представляется противоречащим резко выраженной антибиографической позиции.
Но это ложное противоречие. Бродский не совершал случайных поступков. Когда Ахматова говорила, что власти делают «рыжему» биографию, она была права только отчасти. Бродский принимал в «делании» своей биографии самое непосредственное и вполне осознанное участие, несмотря на всю юношескую импульсивность и кажущуюся бессистемность поведения. И в этом отношении, как и во многих других, он чрезвычайно схож с Пушкиным.
Большинством своих современников Пушкин, как известно, воспринимался как романтический поэт, поведение которого определяется исключительно порывами поэтической натуры. Но близко знавший Пушкина умный Соболевский писал в 1852 году Шевыреву, опровергая этот расхожий взгляд: «Пушкин столь же умен, сколь практичен; он практик, и большой практик».
Речь не идет о демонстративном жизнетворчестве байронического типа или образца Серебряного века. Речь идет об осознанной стратегии, об осознанном выборе судьбы, а не просто жизненного стиля.
В 1833 году, в критический момент жизни, Пушкин начал вести дневник, цель которого была – не в последнюю очередь – объяснить выбранный им стиль поведения после 26-го года и причины изменения этого стиля. Пушкин объяснялся с потомками, понимая, что его поступки будут толковаться и перетолковываться. Он предлагал некий путеводитель.
Есть основания предполагать, что диалоги с Волковым под магнитофон, которые – как Бродский прекрасно понимал – в конечном итоге предназначались для печати, выполняли ту же функцию. Бродский предлагал свой вариант духовной и бытовой биографии в наиболее важных и дающих повод для вольных интерпретаций моментах.
В «Диалогах» крайне значимые проговорки на эту тему. «У каждой эпохи, каждой культуры есть своя версия прошлого», – говорит Бродский. За этим стоит: у каждого из нас есть своя версия собственного прошлого. И здесь, возвращаясь к записям А.К. Гладкова, нужно сказать, что Пастернак явно подобной цели не преследовал. Это был совершенно вольный разговор на интеллектуальные темы, происходивший в страшные дни мировой войны в российском захолустье. В монологах Пастернака нет системной устремленности Бродского, осознания программности сказанного, ощущения подводимого итога. И отсутствовал магнитофон – что психологически крайне существенно.
«Диалоги» нельзя воспринимать как абсолютный источник для жизнеописания Бродского. При том, что они содержат гигантское количество фактического материала, они являются и откровенным вызовом будущим исследователям, ибо собеседник Волкова менее всего мечтает стать безропотным «достоянием доцента». Он воспроизводит прошлое как художественный текст, отсекая лишнее – по его мнению, – выявляя не букву, но дух событий, а когда в этом есть надобность, и конструируя ситуации. Это не обман – это творчество, мифотворчество. Перед нами – в значительной степени – автобиографический миф. Но ценность «Диалогов» от этого не уменьшается, а увеличивается. Выяснить те или иные бытовые обстоятельства, в конце концов, по силам старательным и профессиональным исследователям. Реконструировать представление о событиях, точку зрения самого героя невозможно без его помощи.
В «Диалогах» выявляется самопредставление, самовосприятие Бродского.
«Диалоги», условно говоря, состоят из двух пластов. Один – чисто интеллектуальный, культурологический, философический, если угодно. Это беседы о Цветаевой, Одене, Фросте. Это важнейшие фрагменты духовной биографии Бродского, не подлежащие критическому комментарию. Лишь иногда, когда речь заходит о реальной истории, суждения Бродского нуждаются в корректировке, так как он решительно предлагает свое представление о событиях вместо самих событий.
Диалоги и разговоры
Во вступительной статье и в предисловии к этой книге Яков Гордин и Соломон Волков напоминают нам очень важную вещь. А именно то, что для русской культуры жанр РАЗГОВОРА с крупным мастером – дело экзотическое. Не письма, не воспоминания, не размышления, а именно беседа – живой и непосредственный процесс. Известен Эккерман, конечно. Но, как указывает Яков Гордин, Гёте там – это эккермановский Гёте.
Волков и Бродский
Не случайно книга названа «Диалоги». Я выражу общее мнение, сказав, что Соломон Волков предстаёт в записях этих разговоров блестящим собеседником, человеком глубоко и разносторонне образованным, имеющим своё мнение. Подчас Бродский и Волков спорят, находят или не находят общий язык, прислушиваются или нет друг к другу (чаще, конечно, Иосиф Александрович не прислушивается). Не случайно Волков в предисловии подчеркнул, что каждый диалог (а их в книге 12) строится по законам пьесы: там есть плавная завязка разговора, конфликт (споры, несогласия) и развязка.
Бродский-мифолог
Яков Гордин совершенно справедливо призывает не воспринимать книгу как «абсолютный источник для жизнеописания Бродского». Бродский здесь, при всей нелюбви его к нарушению личного пространства, всё же много рассказывает о себе. Но эта иформация служит, прежде всего, созданию собственной биографии. Точнее, своеобразного мифа о себе. Примерно как это было у Пушкина, который прекрасно понимал, что историю своей жизни можно мифологизировать.
Бродский и беспамятство
Очень и очень часто Бродский ссылается на свою плохую память. Он не помнит дат, многих имён. Или специально забывает? Всегда приводя в пример Анну Андреевну Ахматову: вот та, мол, всегда всё помнила отлично – даже события многолетней давности.
Думается, в этой «амнезии» есть большая доля той мифотворческой силы, которая проявляется у Бродского по отношению к самому себе. Он как бы хочет показать, что совершенно равнодушен к себе, к некоторым моментам своей жизни.
Метафизика и Бродский
Очень скоро по прочтении книги становится понятно, что для Бродского понятие «метафизического» - самое важное в жизни и искусстве. Это слово появляется чуть ли не на каждой странице «Диалогов». Метафизика событий, метафизика творчества, метафизические поэты.
Бродский: Вы знаете, будь я Иосифом Виссарионовичем Сталиным, я бы на то сатирическое стихотворение никак не осерчал бы. Но после «Оды», будь я Сталин, я бы Мандельштама тотчас зарезал. Потому что я бы понял, что он в меня вошёл, вселился. И это самое страшное, сногсшибательное.
Бродский и другие
Всегда интересно, как гениальные мастера оценивают творчество других людей. Как и многие гении, Бродский резок, подчас несправедлив (например, к Тютчеву), капризен и очень выборочен. Гениальными считает фигуры Цветаевой, Пастернака (и то не всего), Одена, Фроста, Мандельштама. Ему нравятся Заболоцкий, Батюшков, Фолкнер, Набоков-прозаик (не поэт!!), Томас Манн, Джон Донн, Кавафис. Он сильно не любит Солженицына… И вообще очень избирателен.
Волков: Если говорить о надрыве, то он действительно отсутствует у художников, которых приянто считать всеобъемлющими, - у Пушкина или у Моцарта, например…
Бродский: У Моцарта надрыва нет, потому что он выше надрыва. В то время как у Бетховена или Шопена всё на нём держится.
Волков: Конечно, в Моцарте мы можем найти отблески надиндивидуального, которых у Бетховена, а тем более у Шопена, нет. Но и Бетховен, и Шопен – такие грандиозные фигуры…
Бродский: Может быть. Но скорее – в сторону, по плоскости, а не вверх.
И вот гениальное:
"Так уж всегда получается, что общество назначает одного поэта в главные, в начальники. Происходит это – особенно в обществе авторитарном – в силу идиотского этого параллелизма: поэт – царь. А поэзия куда больше чем одного властителя дум предлагает. Выбирая же одного, общество обрекает себя на тот или иной вариант самодержавия. То есть отказывается от демократического в своём роде принципа. И поэтому нет у него никакого права опосля на государя или первого секретаря всё сваливать. Само оно и виновато, что читает выборочно. Знали б Вяземского с Баратынским получше, может, глядишь, и на Николаше так бы не зациклились. За равнодушие к культуре общество прежде всего гражданскими свободами расплачивается. Сужение культурного кругозора – мать сужения кругозора политического. Ничто так не мостит дорогу тирании, как культурная самокастрация. Когда начинают потом рубить головы – это даже логично."