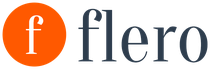Потерянное сердце
Из Гатчинской авиационной школы вышло очень много превосходных летчиков, отличных инструкторов и отважных бойцов за родину.
И вместе с тем вряд ли можно было найти на всем пространстве неизмеримой Российской империи аэродром, менее приспособленный для целей авиации и более богатый несчастными случаями и человеческими жертвами. Причины этих печальных явлений толковались различно. Молодежь летчицкая склонна была валить вину на ту небольшую рощицу, которая росла испокон десятилетий посредине учебного поля и нередко мешала свободному движению аппарата, только что набирающего высоту и скорость, отчего и происходили роковые падения. Гатчинский аэродром простирался как раз между Павловским старым дворцом и Балтийским вокзалом. Из западных окон дворца роща была очень хорошо видна. Рассказывали, что этот кусочек пейзажа издавна любила покойная государыня Мария Феодоровна, и потому будто бы дворцовый комендант препятствовал снесению досадительной рощи, несмотря на то что государыня уже более десяти лет не посещала Гатчины.
Конечно, молодежь могла немного ошибаться. Ведь известно, что всех начинающих велосипедистов, летчиков, конькобежцев и прочих спортсменов всегда неудержимо тянет к препятствиям, которые очень легко возможно было бы обойти. Опытные, дальновидные начальники школы судили иначе: они принимали во внимание топографическое положение Гатчины с окружающими ее болотами и лесами, с близостью Финского залива и Дудергофской горы и, исходя из этих данных, объясняли капризность, переменчивость и внезапность местных ветров. В виде примера они приводили спортивный перелет из Петербурга в Москву штатских авиаторов: Уточкина, Лерхе, Кузьминского, Васильева и еще каких-то трех. Все они сели самым жестоким образом на ничтожных Валдайских возвышенностях, поломав вдребезги свои аппараты. Продолжать полет мог только Васильев, и то лишь потому, что Уточкин, сам с разбитым коленом, отдал ему великодушно все запасные части, помог их приладить и лично запустил мотор…
Трагическое, возвышенное и гордое впечатление производил тот угол на гатчинском кладбище, где беспокойные, отважные летчики находили свой глубокий вечный сон. Заместо памятников над ними водружались пропеллеры. Издали это кладбище авиаторов походило на высокий, беспорядочно воткнутый частокол, но, подходя к могиле ближе, каждый испытывал волнующее высокое чувство. Казалось, что вот с необычайной высоты упала прекрасная мощная птица и, разбившись о землю, вся вошла в нее. И только одно стройное крыло подымается высоко и прямо к далекому небу и еще вздрагивает от силы прерванного полета.
Жуток и величествен был обычай похоронных проводов убившегося товарища. На всем пути в церковь и потом на кладбище его сопровождала, кружась высоко над ним, летучая эскадра изо всех наличных летчиков школы, и рев аэропланов заглушал идущее к небу последнее скорбное моление: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас».
Суров был и, пожалуй, даже немного жесток другой неписаный добровольный товарищеский обычай. Если летчику, по несчастному случаю или по неловкой ошибке, случалось угробить аэроплан, то на это крушение большого внимания никто не обращал. Если оно происходило далеко от аэродрома, то летчик телефонировал в школу, а если близко, то его падение бывало видно с поля. Очень быстро приезжали авиационные солдаты и на телегах увозили остатки катастрофы. Но если угроб-ливался или опасно искалечивался сам летчик, то его везли в госпиталь. И в тот же час, хотя бы его труп лежал еще тут же, у всех на виду, на авиационном поле, все летчики, находящиеся на службе, выдвигали из ангаров или брали с поля готовые аппараты и устремлялись ввысь. Опытные летуны пробовали выполнить задачу, заданную на сегодня несчастному собрату, другие старались повысить собственные рекорды. Тщетно было бы искать происхождения такого вызова судьбе в параграфах военно-авиационного устава. Это был неписаный закон, священный обычай, словесный «адат» мусульман, выработанный инстинктом, необходимостью и опытом. Летчик всегда должен оставаться спокойным, даже тогда, когда лицо его обледенит близкое дыхание смерти. «Вот убился твой товарищ, однокашник и друг. Его прекрасное молодое тело, вмещавшее столько божественных возможностей, еще хранит человеческую теплоту, но глаза уже не видят, уши не слышат, мысль погасла и душа отлетела бог весть куда. Крепись, летчик! Слезы прольешь вечером. Дыши ровно. Не давай сердцу биться. Потеряешь сердце — потеряешь жизнь, честь и славу. Руки на рукоятках. Ноги на педалях. Взревел мотор, сотрясая громадный аппарат. Вперед и выше! Прощай, товарищ! Бьет в лицо ветер, уходит глубоко из-под ног темная земля. Выше! Выше, летчик!»
В то время, незадолго до войны, и в первые годы войны чрезвычайно, даже чрезмерно многие молодые люди жадно стремились попасть в военную авиацию. Поводов было много: красивая форма, хорошее жалованье, исключительное положение, отблеск героизма, ласковые взгляды женщин, служба, казавшаяся издали необременительной и очень веселой и легкой. Реже других попадали в авиационные школы люди настоящего призвания, прирожденные люди-птицы, восторженно мечтающие о терпких и сладких радостях летания в воздухе, те люди, о которых Пушкин говорил:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог!
Но надо сказать, что эти разверзатели пространств, эти летуны милостью божиею удивительно редко встречаются в природе, и к тому же они совсем лишены великих даров назойливости, попрошайничества и втирательства через протекции. Но и протекции все равно не помогали. Новичков принимали в авиационную школу, протискивая их через густое сито. Будущий летчик должен был обладать: совершенным и несокрушимым здоровьем; большой емкостью легких; способностью быстро ориентироваться как на земле, так и в воздухе; верным умением находить и держать равновесие; острым зрением, без намека на дальтонизм; безукоризненным слухом, физической силой и, наконец, сердцем, работающим при всяких положениях с холодной, неизменной точностью астрономического хронометра. Про храбрость, смелость, отвагу, дерзость, неустрашимость и про прочие сверхчеловеческие душевные качества летчика в этом летающем мире никогда или почти никогда не говорилось. Да и зачем? Разве эти, столь редкие ныне, качества не входили сами по себе в долг и обиход военного авиатора?.. Хвалили Нестерова, впервые сделавшего мертвую петлю. Хвалили Казакова, снизившего восемнадцать вражеских аэропланов. Хвалили, но не удивлялись: удивление так близко к ротозейству!
Не мудрено, что при столь строгом испытании и при такой суровой дисциплине наибольшая часть неспособных, ненужных, никуда не годящихся кандидатов в летчики отваливалась вскоре сама собою, как шлак или мусор. Оставался безукоризненный, надежный отбор. Но даже среди этих избранных, при первых опытах полета, находились еще неудачники, люди смелые, ловкие, влюбленные в авиацию, но — увы! — лишенные какого-то из великих даров приближения к небу. Те уходили молча, с горестью в душе, и старые летчики провожали их с грубоватым и дружеским сожалением, хотя иных из них приходилось провожать только до кладбища.
Овладевал, между прочим, не только молодыми, но и опытными, закаленными знаменитыми летчиками особый трудно объяснимый и неизлечимый, внезапный недуг, который назывался «потерею сердца» и о котором ни один из авиаторов не позволил бы себе отозваться насмешливо или легкомысленно.
Здесь под понятием сердца не надо предполагать мощный мускул на левой стороне человеческой груди, который самоотверженно и послушно многие годы нагнетает кровь во все закоулки нашего тела. Нет! Здесь подразумевается символ психологический, моральный. Потерять сердце — это для летчика значит потерять божественную свободу разгуливать в небесном пространстве по своей воле на хрупком аппарате, пронизывать облака, спокойно встречать дождь, снег, ураган и молнии, ничуть не теряясь оттого, что ты совершенно не знаешь: летишь ли ты во тьме, на юг или на запад, вверх или вниз.
Одно из поразительнейших явлений — это потеря сердца. Ее знают акробаты, всадники и лошади, борцы, боксеры, бретеры и великие артисты. Эта странная болезнь постигает свою жертву без всяких последовательных предупреждений. Она является внезапно, и причин ее не сыщешь.
Вот так же неожиданно потерял сердце на Гатчинском аэродроме славный авиатор и отличный инструктор Феденька Юрков (ударение на о), о котором в наивной гатчинской авиационной звериаде пелось:
Поступил он в авиацию не очень рано, лет двадцати семи-восьми, из кавалерии. Надо сказать, что кавалеристам легче, чем простым смертным, давалась несложная, но все-таки требующая присутствия духа наука управления авионом, ибо работа над лошадью поводьями и шенкелями имеет много общего с маневрами летчиков. Служил он раньше хотя и не в гвардейском, а в армейском полку, но полк от времен седой старины был покрыт исторической славой.
Замечателен он был еще тем, что в нем, как и в двух других кавалерийских полках, всему составу господ офицеров и всем вахмистрам полагалось быть холостыми, и на это крутое правило никогда не было ни исключений, ни поблажек. Что-то было в милом Феденьке Юркове от легендарных героев-кавалеристов 1812 года — от Милорадовича, от Бурцова, еры, забияки, от Дениса Давыдова, от Сес-лавина: хриплый командный голос с приятной сипловатостью, походка немного раскорякою, внешняя грубость и внутренняя правдивая доброта и, наконец, блестящая лихость в боевых делах. Вся русская военная авиация знала и с улыбкой вспоминала о его забавном и опасном приключении в начале войны на Западном фронте. Ему была поручена воздушная разведка. Штабу наверняка было известно, что немцы находятся где-то довольно близко, верстах в тридцати — сорока, но в каком направлении — никто не ведал.
Юрков быстро поднялся в воздух, имея позади себя наблюдателя с бомбой, знавшего прекрасно немецкий язык, бывшего ученика петербургской Петершуле, славного и сильного малого и из «русских распрорусского».
Погода в верхних слоях была моросливая, с густым тяжелым туманом. Пилот вскоре потерял намеченный путь, перестал ориентироваться и решил приземлиться, чтобы опознаться в местности. Судьба и начавшийся ветерок руководили им. Он спустился как раз на широкую и теперь безлюдную площадь города Гумбинена, как раз напротив опрятного кабачка, тонувшего во вьющейся зелени. Город, несмотря на рев спускавшегося авиона, продолжал безмолвствовать, как в сказке о спящей царевне. Вероятно, звуки мотора были здесь обычным явлением. Из кабачка пахло кофеем и жареной колбасой. У Юркова сразу созрел план действий.
— Надо узнать, какой это город, и вытянуть, какие удастся, сведения. Итак, слушайте, Шульц: я — лейтенант кайзерской авиации, вы — мой унтер-офицер. Я ранен в горло и потому говорю совсем невнятно. Я буду хрипеть и сопеть. Так мне легче будет маскировать мое незнание немецкого языка, а берлинский жаргон я умею ловко передразнивать. Немецкие деньги у вас. Дайте сюда и идемте фриштыкать . Если возникнут недоразумения по поводу нашей формы, говорите, что наша секретная задача этого требует для заманивания в мешок этих руссише швейне , и вообще ругайте нас без всякого милосердия. Когда подкрепитесь, идите к аппарату. Ну, форвертс!
В опрятной столовой они выпили кофе с молоком, съели вкусный сытный завтрак из яичницы с ветчиной, жареных толстых сосисок и доброго сыра, запивали же его они дрянным шнапсом и отличным бархатным черным пивом.
Шульц без конца болтал на настоящем чистейшем немецком языке и ловко успел выведать, что город называется Гумбиненом, что отряды кайзера пробыли в нем четыре дня, а потом ушли куда-то на восток и теперь их не видно и не слышно уже трое суток, а в городе остались лишь раненые и инвалидная команда. Юрков произносил картаво, хрипло и густо, из самой глубины горла односложные слова «моэн», «маальцейт», «проозит», «колоссаль», «пирамидаль» , а огромного, толстого, раздутого пивом хозяина звал, хлопая его дружески по жирной спине: «Май либа фаата» .
Если Ницше называл прусский берлинский язык плохой и бездарной пародией на немецкий, то юрковская пародия на пародию выходила замечательно. Две милые женщины прислуживали за столом: полная — чтобы не сказать толстая — хозяйка, цветущая пышной, обильной красотою сорокалетней упитанной немки, и ее дочь, свеженькая «бакфиш» , с невинными голубыми глазами, розовым лицом, золотыми волосами и губами красными, как спелая вишня.
«Эх, пожить бы нам здесь всласть дня два, три, — мечтательно подумал Феденька. — Я бы поволочился за фрау, а фрейлен предоставил бы Шульцу. Конечно, ничего дурного! Просто — буколическая идиллия под каштанами немецкого тихого городка…»
Но в эту минуту скорым ходом вернулся от аэроплана Шульц. Он чуть-чуть кивнул головой в знак того, что все обстоит благополучно, но легкое движение его ресниц красноречиво указало на дверь.
— Извините. Одна минута, — сказал по-немецки голосом чревовещателя Юрков и вышел.
— В чем дело?
— Проезжал в шарабане немец и остановился, чтобы сказать другому немцу, что по дороге он видел с холма большой немецкий отряд, идущий в колонне на Гумбинен. Что прикажете делать, господин ротмистр?
— Сниматься с якоря. Идем попрощаемся с милыми хозяевами. — Он расплатился за завтрак с такой щедростью, на какую никогда бы не отважился ни один немецкий эрцгерцог, и притом расплатился не жалкими бумажками, а настоящими серебряными гульденами. Пораженная сказочной платой, хозяйка навязала почти насильно авиаторам корзиночку с провизией, и растроганный Юрков влепил ей в самые губы сердечный поцелуй. Хозяин охотно вызвался отыскать двух сильных людей, чтобы пустить в ход пропеллер аппарата. Через десять минут мощный «моран-парасоль», отодравшись от земли, уже летел легко к разъяснившемуся небу, а немецкие друзья махали вслед ему шляпами и платками.
Вскоре с большой высоты они увидали сплошную гусеницу немецкой колонны, казавшейся почти неподвижной.
— Господин ротмистр, — прокричал в слуховую трубку Шульц, указывая на гнездо, в котором лежала бомба. — А не пустить ли в них этой мамашей?
На что Юрков, никогда не терявший спокойствия, ответил серьезно:
— Нет, мой молодой друг! Наше точное задание — разведка. Часто — увы! — из-за сурового долга приходится отказывать себе в маленьких невинных удовольствиях!.. Вечером, в офицерском собрании, за ужином, в который входили и гумбиненские толстые сосиски, Феденька Юрков рассказал эту историю при громком хохоте всех летчиков. Ему не чужд был соленый, грубоватый юмор.
Юрков поступил в авиацию за год до войны. На войне он с успехом летал сначала на таких старых первобытных аппаратах, каких давным-давно и помину не было во всех воюющих армиях. Немцы говорили: «Самые храбрые летчики — это русские. Немецкий летчик счел бы безумием сесть на один из их аппаратов». Юркова точно чудом спасали от смерти его отвага, хладнокровие и находчивость. За это время он успел все-таки сбить шесть вражеских аэропланов. В 1916 году он получил две пулевых раны и был из госпиталя командирован в Гатчинскую школу в качестве инструктора. Вернее, это был замаскированный отдых.
Как товарищ Юрков, несмотря на некоторую шершавость характера, отличался добротою, готовностью к услуге, всегдашней правдивостью и был любимейшим компаньоном. Как инструктор он был строг и крайне требователен. Он как будто бы совсем позабыл о том постепенном преодолении трудностей, о той постоянной гимнастике духа и воли, которые неизбежны при обучении искусству авиации. Большинство учеников сбегало от него к другим, более мягким, инструкторам, но зато из молодежи, обтерпевшейся в его жестких руках, выходили немногие, но первоклассные летчики.
В Гатчине Феденька Юрков выбрал своим жильем гостиницу Веревкина, на вывесках которого золотом по черному было написано: на одной «Vieux Verevkine» , a на другой «Распивочно и раскурочно» — старый наивный след пятидесятых годов. Гатчина, городишко тихий, необщительный, летом весь в густой зелени, зимой весь в непроходимом снегу. Там семьи редко знакомятся друг с другом. Нет в нем никаких собраний, увеселений и развлечений, кроме гаденького кинематографа. Никогда ни одного человека нельзя было встретить: ни в Приоратском парке, ни в дворцовом, ни в зверинце. Замечательный дворец Павла I не привлекал ничьего внимания, пустовали даже улицы.
Вот именно в передней плохонького синема, после сеанса, Феденька Юрков и увидел Катеньку Вахтер.
Дожидаясь, пока ее матушка разыскивала свои галоши, а потом кутала шею и голову вязаным платком, Катенька стояла перед зеркалом, кокетничала со своею новой шляпой и вполголоса говорила подруге о своих впечатлениях, склоняя личико то на один, тона другой бок.
— Ах, Макс Линдер! До чего он хорош! Это что-то сверхъестественное, не объяснимое никакими человеческими словами! Какое выразительное лицо. Какие прелестные жесты!
Тут она повернула головку направо, и глаза ее столкнулись в зеркале с глазами Юркова. Она глядела прямо на летчика, но глядела машинально: она его не видела и продолжала говорить с преувеличенной страстностью, упираясь зрачками в его зрачки.
— Он безумно, безумно мне нравится! Я еще никогда не видала в жизни такого прекрасного мужчину! Вот человек, которому без колебаний можно отдать и жизнь, и душу, и все, все, все. О, я совсем очарована им!
В это мгновение восторженный образ Юркова влился в сознание барышни Вахтер. Она покраснела и поспешила спрятаться за широкую спину маменьки. Но про себя она сказала по адресу офицера, жадно пялившего на нее восхищенные глаза: «Какой дерзкий нахал!»
Юрков отлично заметил ее гордый, небрежный и презрительный взгляд. Но… все равно… Теперь ему уже не было спасенья. Стрела амура успела пронзить в этот момент его мужественное сердце, и он сразу же заболел первой любовью: любовью нежной, жестокой, непреодолимой и неизлечимой.
В доме Вахтеров иногда бывали гатчинские летчики. Один из них, поручик Коновалов, ввел Юркова в этот дом, и с тех пор Феденька зачастил туда с визитами. Он приносил цветы и конфеты, участвовал в пикниках и шарадах, держал для мамаши на распяленных пальцах мотки шерсти, водил папашу, акцизного надзирателя и старого мухобоя, в офицерское собрание, где хоть и не без труда, но удавалось иногда выпросить стакан спирта у заведующего хозяйством школы капитана Озеровского. Недаром в исторической звериаде пелось:
А чтоб достать порою спирт,
Нам с Озеровским нужен флирт,
Химия, химия,
Сугубая химия.
Скрепя сердце играл Юрков в маленькие семейные игры и танцевал под мамашину музыку самые неуклюжие вальсы, венгерки и падеспани. Всем было известно, что он без ума влюбился в Катеньку. Товарищи-летчики удивлялись. Что он нашел в этой тоненькой семнадцатилетней девчонке? Она была мала ростом, с бледным лицом в пупырышках; к тому же была у нее неисправимая, дурная привычка беспрестанно двигать кожу на лбу, так что морщины подымались вверх до корней волос, что придавало лицу Катеньки глупое и всегда удивленное выражение. Не пленила ли Феденьку одна ее трепетная юность?
Бывший офицер славного холостого кавалерийского полка никогда не знал чистой, свежей любви. Он, подобно своим товарищам — драгунам, всегда в любовных делах занимался дальним каперством, чтобы не сказать пиратством, и вообще легкими амурами. Теперь он любил с уважением, с обожанием, с вечной иссушающей мечтой о тихих радостях законного брака. Это стремление к семейному раю порою глубоко изумляло его самого, и он иногда размышлял вслух:
— Гм… Попался, который кусался!..
Пробовал он порою закидывать косолапые намеки на предложение руки и сердца. Но куда девалось его прежнее развязное и бесцеремонное красноречие. Слова тяжело вязли во рту, а часто их и вовсе не хватало. Его жениховских подходов как будто никто не понимал…
К тому же всем давно было известно, что Катенька влюблена в Жоржа Востокова, двадцатипятилетнего летчика, который, несмотря на свою молодость, считался первым во всей русской авиации по искусству фигурного пилотажа. Кроме того, румяный Жоржик премило пел нежные романсы, аккомпанируя себе на мандолине и на рояле. Но он не обращал никакого внимания на Катюшины взоры, вздохи и на томные приглашения прокатиться на лодке по Приоратскому пруду. Вскоре он и совсем перестал бывать у Вахтеров.
Убедившись наконец в своей полной и бесповоротной неудаче, Юрков заскучал, захандрил, изнемог, и более двух недель он под разными предлогами не выходил из гостиницы «Vieux Verevkin"a» и вернулся на службу лишь после многозначительной бумаги начальника школы. Пришел он на аэродром весь какой-то мягкий, опущенный, с исхудалым и потемневшим лицом и сказал товарищам-пилотам:
— Я хворал и потому совсем раскис. Но теперь мне гораздо лучше. Попробую сегодня подняться на четыре тысячи. Это меня взбодрит и встряхнет.
Ему вывели из гаража его чуткий, послушный «моран-парасоль». Все видели, как ловко, круто и быстро он поднялся до высоты в тысячу метров, но на этой высоте с ним стало делаться что-то странное. Он не шел выше, вилял, несколько раз пробовал подняться и опять спускался. Все думали, что у него случилось что-нибудь с аппаратом. Потом он стал снижаться планирующим спуском. Но аэроплан точно шатался в его руках. И на землю он сел неуверенно, едва не сломав шасси… Товарищи подбежали к нему. Он стоял возле машины с мрачным и печальным лицом.
— Что с тобою, Феденька? — спросил кто-то.
— Ничего… — ответил он отрывисто. — Ничего… Я потерял сердце, как ни бился — не могу и не могу подняться выше тысячи метров, — и знаете ли? никогда не смогу. Покачиваясь, он пошел через авиационное поле. Никто его не провожал, но все долго и молча глядели ему вслед.
Немного придя в себя, Юрков на другой день, и на третий, и на следующий пробовал одолеть тысячную высоту, но это ему не давалось. Сердце было потеряно навеки.
Примечания
12. Завтракать (от нем. frühstücken).
13. Русских свиней (от нем. Russische Schweine).
14. Вперед! (от нем. Vorwärts!).
15. От слов: Guten Morgen — доброе утро; Mahlzeit — приятного аппетита; Prosit — ваше здоровье; kolossal — колоссально; pyramidal — превосходно (нем.).
16. Мой дорогой отец (от нем. Mein lieber Vater).
17. Девочка-подросток (от нем. Backfisch).
18. «Старый Веревкин» (фр.).
701-
Как безжалостна жизнь была к тебе,
Так пусть же будут благосклонны небеса.
702-
Иль жизнь иль смерть, как
Бог решит за нас,
703-
Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,
704-
Твои глаза, улыбка, руки,
705-
И где ангел их душу излечит,
706-
Не жизни жаль, а жаль того огня,
Что, просияв над целым мирозданьем,
Исчезнет в ночи, плача и скорбя.
707-
Расстались мы.
Болезнь тебя сразила.
С собой в могилу унесла
Страданье, боль, надежду и любовь,
И светлый ум, и доброту, и память.
Но ждёт тебя дорога впереди
В иную жизнь — без боли и страданий.
708-
Погас твой светлый ум,
И сердце перестало биться,
Но память о тебе жива
И трудно нам с потерею смириться.
709-
Жизнь мерзка и пуста,
И счастья в ней не будет,
Сожгу себя дотла,
А там пусть Бог рассудит.
Кто прав, кто виноват,
Кто подло жил, кто честно.
Мы судим наугад,
Ему же всё известно.
710-
Звезда взошла, сверкнула и погасла,
Не гаснет лишь очей любимый свет,
Где память есть, там слов не надо.
711-
К твоей безвременной могиле,
наша тропа не зарастет.
Родной твой образ,
образ милый,
всегда сюда нас приведет.
712-
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Ты с нами будешь навсегда.
713-
Короткий век. бывает больше,
Бывает меньше, Не в том суть,
И время вспять не повернуть.
Но ты прошла свой путь достойно
И время прожито не зря.
Ты солнце, воздух и заря.
Лишь память о тебе навечно
Останется у нас в сердцах.
714-
Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,
Но образ твой светлый и милый
В памяти нашей всегда.
715-
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
716-
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,
В памяти нашей всегда.
717-
Не дочитана книга,
Не закончена мысль.
Так внезапно и рано
Оборвана жизнь.
718-
Пусть дали твои безбрежные
Укутаны будут в цветочную замять,
Пусть будут светлы твои сны безмятежные,
Как о тебе наша светлая память.
719-
Прости, что нам под небом звёздным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышалась ты.
720-
Помолчим над памятью твоей,
Затаив потери боль и горечь.
721-
Ты не уйдёшь из жизни нашей,
Пока мы живы — с нами ты.
722-
723-
Как жаль, что жизнь твоя была такой короткой,
724-
На земле тебя нет,
Но в душе навсегда
Будет память жива о тебе.
725-
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
726-
Земной твой путь
Уставлен был шипами,
Небесный путь украшен
Будет пусть цветами.
727-
Нам не вернуть тебя слезами,
А сердцем мы всегда с тобой.
728-
Целуем мы твои глаза,
Прильнём к любимому портрету,
А по щеке течёт слеза,
Конца и края скорби нету.
729-
730-
Чтоб тебе её подарить.
731-
Родных и близких.
732-
Не выразить словами
Всей скорби и печали.
В сердцах и в памяти
Всегда ты с нами.
733-
Ты трагический погибла
Не простившись с нами.
Вспоминаем мы тебя Горькими слезами.
734-
Прости, что жизнь твою я не спасла,
Вовек не будет мне покоя.
Не хватит сил, не хватит слёз,
Чтобы измерить моё горе.
735-
Тот день, когда твой взор угас,
И сердце перестало биться,
Стал самым чёрным днём для нас
736-
Когда твой ясный взор погас
И сердце перестало биться,
И мы не можем с ним смириться.
737-
Тепло души твоей
Осталось вместе с нами.
738-
Мы без тебя -
Всегда с тобой.
739-
740-
Мы знаем -
Тебя невозможно вернуть,
Но душа твоя с нами.
741-
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
742-
Ещё не раз вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый, не обманный.
743-
Но память о тебе осталась,
И будем мы её хранить.
744-
Твой милый образ незабвенный
Пред нами он везде, всегда,
Непостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда.
745-
Пусть неизбежен жизни круг
Пока же он не завершился,
Мы помнить будем о тебе
И мыслями с тобой делиться.
746-
747-
748-
749-
750-
Настало время быть в покое.
Взяла земля своё земное.
Но, как же трудно нам тебя терять,
Смириться с горем, жить опять.
751-
Заря твоей жизни
Еле взошла, Как злая судьба,
Твою жизнь унесла.
752-
Заря твоей жизни еле взошла,
Как злая судьба, твою жизнь унесла.
753-
Твой вечный покой -
Наша вечная боль
753-
Уйдя из жизни все еще живешь,
Ты, в наших помыслах, мечтаньях.
754-
Человеку, который увидел ангела.
755-
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
756-
К твоей безвременной могиле,
наша тропа не зарастет.
всегда сюда нас приведет.
Короткий век. бывает больше,
Бывает меньше, не в том суть,
А в том, что без тебя так больно,
И время в спять не повернуть.
Но ты прошёл свой путь достойно
И время прожито не зря.
Ты солнце, воздух и заря.
Ведь на земле ничто не долговечно,
Всё тленно, и в итоге — прах,
Лишь память о тебе навечно
Останется у нас в сердцах.
757-
Ужасный миг судьбы жестокой
758-
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
759-
Сердце погасло,
будто разница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
760-
Не дочитана книга,
Не закончена мысль.
Так внезапно и рано
Оборвана жизнь.
761-
Помолчим над памятью твоей,
Затаив потери боль и горечь.
762-
Ты не уйдёшь из жизни нашей,
Пока мы живы — с нами ты.
763-
Как по весне теряют сок берёзы,
Так по тебе у нас печаль и слёзы.
764-
Как жаль,
что жизнь твоя была такой короткой,
Но вечной будет память о тебе.
765-
На земле тебя нет,
Но в душе навсегда
Будет память жива о тебе.
766-
Мы гордимся твоей жизнью
И скорбим о твоей смерти.
767-
Твой вечный покой -
Наша вечная боль.
768-
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
769-
Земной твой путь
Уставлен был шипами,
Небесный путь украшен
Будет пусть цветами.
770-
Нам не вернуть тебя слезами,
А сердцем мы всегда с тобой.
771-
Пусть этот печальный безмолвный гранит
Твой образ навеки для нас сохранит.
772-
Как много твоего осталось с нами,
Как много нашего ушло с тобой.
Горе нежданное, горе немерено,
Всё дорогое в жизни потеряно.
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтоб тебе её подарить.
773-
Не выразить словами
Всей скорби и печали.
В сердцах и в памяти
Всегда ты с нами.
774-
Как прежде рдеет кисть рябины,
Трубят над лесом журавли,
И, кажется, что если крикну,
То отзовёшься ты в дали.
775-
Когда твой ясный взор погас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днём для нас
И мы не можем с ним смириться.
776-
Тепло души твоей
Осталось вместе с нами.
777-
В благодарной памяти
Навсегда останутся
Твои душевность, красота,
Нежность, ласка, доброта.
778-
Мы без тебя -
Всегда с тобой.
779-
Не в днях прошедших твоя жизнь,
А в днях, что в памяти остались.
780-
Мы знаем -
Тебя невозможно вернуть,
Но душа твоя с нами.
Ты ей озаряешь наш жизненный путь,
А нам остаётся лишь вечная память.
781-
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
782-
Всем, кого знала
в кусочках жизнь
Свою отдала.
783-
До боли краток оказался век
Ушла ты слишком рано,
Но в памяти всегда ты будешь с нами
Родной, любимый человек.
784-
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
785-
Уж тропинки травой заросли,
Где когда-то гуляли с тобою,
Только вечная сила любви
И теперь не даёт мне покоя.
786-
Жизнь пронеслась и оборвалась,
Ведь смерть нельзя остановить,
Но память о тебе осталась,
И будем мы её хранить.
787-
Пусть неизбежен жизни круг
Пока же он не завершился,
Мы помнить будем о тебе
И мыслями с тобой делиться.
788-
До боли краток оказался век,
Но в памяти всегда ты будешь с нами.
Родной, любимый человек.
Всю нашу боль не выразить словами.
789-
Ты вечно будешь жить в сердцах
Родных и близких.
790-
Тому, кто дорог был при жизни
От тех, кто помнит и скорбит.
791-
Перед скорбью бессильны слова,
тот не умер, о ком память жива.
792-
Тому, кто дорог был при жизни.
От тех, кто помнит и скорбит.
793-
Последний дар
любви и скорби.
794-
Забыть нельзя,
Вернуть невозможно.
795-
Как много нашего ушло с тобой,
Так много твоего осталось с нами.
795-
Лишь память возвращает нам
отнятое судьбой.
796-
Судьба — беда или счастливый случай,
Иль жизнь иль смерть, как Бог решит за нас,
А он к себе уносит самых лучших,
Кого так не хватает нам сейчас.
797-
Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,
Но образ твой светлый и милый
В сердцах наших будет всегда.
798-
В наших сердцах и в памяти навеки
Останется всё то, что связано с тобой.
Твои глаза, улыбка, руки,
И любящее сердце, хранящее покой.
799-
Уходят туда, где есть город-мечта
И где ангел их душу излечит,
Где горит та звезда и ведёт их туда -
Там где жизнь под названием Вечность.
800-
Такую боль не передать словами,
Она вся в сердце раненом моём.
Жестоко как судьба распорядилась нами,
Не дав остаться на земле вдвоём.
Но в одиночестве своём тоскуя
Под жарким солнцем и когда идут дожди,
Я помню о тебе, тебя люблю я
И говорю тебе: До встречи. Жди!
801-
Горем сердце мое,
Твоя смерть обожгла,
Что мне мир без тебя,
И мирские дела.
802-
Прости! Ещё увидимся опять с тобой
803-
Во дни печали нашей сирой,
К Стопам Творца мы припадем,
Утешит нас Отец Небесный,
И в нем отраду мы найдем.
804-
Не стоит, копаясь в золе,
Искать то, чего не исправить.
Оставьте ушедших земле.
И наша им светлую память.
804-
Как тяжкий груз, несём утраты бремя
Над памятью не властно время,
805-
Не дотянуться рукой,
Ты не будешь со мной,
Твоя смерть разлучила
Навсегда нас с тобой.
806-
И земля вся опустела.
807-
Как капли росы на розах,
На щеках моих слезы.
Спи спокойно, милый сын,
Все тебя мы любим, помним и скорбим.
808-
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
809-
Вечно будет о тебе слеза матери,
Грусть отца, одиночество брата,
Скорбь бабушки и дедушки.
810-
Тихо, деревья,
Листвой не шумите.
Мамочка спит, Вы ее не будите.
811-
Ушел ты рано, не простившись,
И не сказавши слова нам,
Как жить нам дальше, убедившись,
Что больше не вернешься ты.
812-
Из жизни ты ушла непостижимо рано,
Родителей печаль гнетет.
В сердцах их кровоточит рана.
Сынишка твой растет, не зная слова мама.
813-
Все было в нем -
Душа, талант и красота.
Искрилось все для нас,
Как светлая мечта.
814-
Когда уходит близкий человек,
В душе остается пустота,
Которую ничем не залечить.
815-
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
816-
Подкралась злая смерть ко мне,
Ушел от вас я навсегда.
Ох, как хотелось бы мне жить,
Но такова моя судьба
817-
Любовь к тебе,
родной сынок,
Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.
818-
Уйдя из жизни, все еще живешь ты
В наших помыслах, мечтаньях.
Судьбой дарованного не переживешь.
Мы помним о тебе и в радостях и в муках.
819-
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
820-
К твоей безвременной могиле
Наша тропа не зарастет.
Родной твой образ, образ милый,
Всегда сюда нас приведет.
821-
Скорбь души не выплакать слезами,
Сырой могиле горя не понять.
Как жаль, что твоя жизнь
Была такой короткой,
Но вечной будет память о тебе.
822-
Мы приходим сюда,
Чтоб цветы положить,
Очень трудно, родная,
Без тебя нам прожить.
823-
Снова солнце закрывают тучи,
Снова мы не властны над судьбой.
824-
Умирают навсегда!
И не будет повторенья.
Лишь далёкая звезда
Примет наше отраженье.
825-
В руки Всемогущего Бога,
Творца жизни и смерти
Придаю дух мой.
826-
Воля начинает,
Чувство продолжает,
Разум, доведя до Обсалютного, завершает.
827-
Будьте счастливы, люди!
Жизнь, как солнце — одна!
Пусть ни вьюги,ни зной не остудят
Радостный миг огня.
828-
Вы меня не ждите,
Я к вам не приду.
Ко мне вы не спишите,
Я вас подожду.
829-
Что было, то и теперь есть,
И что будет, то уже было.
И возвратится прах в землю, чем он был,
А дух возвратится к Богу, который дал его.
830-
О, свет надежд!
О, чёрных страхов гнёт!
Одно лишь верно.
Эта жизнь течёт.
Вот истина, а всё остальное ложь.
Цветок, отцветший, вновь не расцветёт.
831-
Живущий под ковром Всевышнего
Под сенью Всемогущего покоится.
832-
Есть вера, побеждающая вечность
А человек — в бессмертии души
833-
Ужасный миг судьбы жестокий
Оставил нам пожизненную скорбь.
834-
Рок судьбы твоей жестокий
Оставил нам пожизненную боль.
835-
Перед скорбью бессильны слова,
тот не умер, о ком память жива.
Нашу скорбь не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живую,
Вечно будем любить.
836-
Мы все скорбим,
Что ты уже не с нами,
Но время не воротится назад.
Хранить мы будем вечно память
В наших любящих сердцах.
836-
Озябшие мы стоим
Под древом без листвы
Сколько же всего -
Плохого и хорошего -
Ждёт нас ещё впереди?
Но ты не бойся -
Открой своё сердце
И смело иди впереди удач и невзгод
А я? И я пойду за тобой.
Ведь мы — это я и ты.
838-
Звёзды не умирают,
Они просто уходят за горизонт.
839-
Кто дорог,
тот не умирает,
Лишь с нами быть перестаёт.
840-
Любимые не покидают.
Лишь с нами быть перестают.
841-
Как тяжкий груз несём утраты бремя,
Мы сохраним любовь и память на года,
Над памятью не властно время
И скорбь нас не покинет никогда.
842-
Без тебя для нас солнце потускнело
И земля вся опустела.
843-
Не дотянуться рукой,
Ты не будешь со мной,
Твоя смерть разлучила
Навсегда нас с тобой.
844-
Не сгладит время
Твой глубокий след.
Всё в мире есть,
Тебя лишь только нет.
845-
Душа устала от предательств
Всеобщей тщны и суеты
И ей искать ли доказательств,
В защиту своей правоты.
846-
Ещё б хоть раз увидеть образ твой любимый,
Услышать голос твой родной.
На это всё б мы поменяли
И жизнь свою,
не думая,
отдали.
847-
Тоски и боли нашей не измерить.
Тебя ни повидать, не возвратить.
И так невыносимо жить,
И в то, что нет тебя, нам трудно верить.
848-
На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали.
849-
Уходят люди, их не возвратить
И тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратимости кричать.
850-
Не могут люди вечно жить,
Но счастлив тот, кто помнит имя!
851-
На сердце горькая печаль
Лежит омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родная (родной наш), с нами.
852-
Все мы, все мы в этом мире тленны
Тихо льется с клёнов листьев медь.
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
853-
Кто верит в Бога — тот блажен,
Пусть даже ничего не знает.
854-
Мы поздно начинаем восхищаться -
Почти всегда, как нужно уходить.
855-
Мой друг,
о прошлом не грусти,
Пусть невозвратное тебя не гложет.
В одну и ту же реку не войти.
856-
Вся жизнь твоя — пример для подражанья.
857-
На земле мы только учимся жить.
858-
Из того мира на камени веры
Лекарство от скорби.
859-
Горе не прошено,
Горе немерено,
Всё дорогое на свете потеряно.
860-
Не стыдись прохожий
Помянуть мой прах,
Ибо я уже дома, а ты ещё в гостях.
861-
Не гордись прохожий
Навестить мой прах
Ибо я уже дома, а ты ещё в гостях
862-
Тому, кто дорог был при жизни,
Чья память после смерти дорога.
863-
Я тебя взрастила, но не сберегла.
А теперь могила сбережет тебя.
864-
Тому, кто дорог был при жизни
От тех, кто помнит и скорбит.
865-
Вечный покой даруй им Господи,
И вечный свет да светит им.
866-
Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,
Но образ твой светлый и милый
В памяти нашей всегда.
Завещаю жизнь прожить достойней,
Не спешить концы быстрей отдать.
Ведь и мне здесь будет тем спокойней,
Чем всех вас я дольше буду ждать.
развесил, развешенный; развешать – развесил, развешанные; купить
- купил, купленный; бросить - бросил, брошенный; увенчать - увенчал, увенчанный; обещать - обещал, обещанный; поразить - поразил, пораженный; обстрелять - обстрелял, обстрелянный; подстрелить - подстрелил, подстреленный; затеять - затеял, затеянный; раскроить - раскроил, раскроенный по швам; высмеять
- высмеял, высмеянный; посеять - посеял, посеянный в прошлом месяце; склеить - склеил, склеенный намертво; обвешать - обвешал, обвешанный; обвесить - обвесил, обвешенный; утешить - утешил, утешенный.
№ 268. 1) Тесто хорошо замешено (замесить). Он был замешан (замешать) в неприятную историю. 2) Стены комнаты были оклеены (оклеить) светлыми обоями. 3) Потерянная (потерять) книга нашлась. 4) Замеченные (заметить) вовремя ошибки удалось быстро исправить. 5) На засеянных (засеять) ранней весной полях дружно появились первые всходы. 6) Работа была окончена (окончить) своевременно. 7) Белье было быстро высушено (высушить) ветром. 8) Лекция прослушана (прослушать) с глубоким вниманием.
№ 269. 1) Школьный драматический кружок, руководимый (страд.) артистом городского театра, готовит новую постановку. - Артист, руководящий (действ.) школьным драматическим кружком, тщательно разъясняет роль каждому участнику спектакля. 2) Юннаты, проделавшие (действ.) работу по расширению пришкольного сада, написали о своем опыте в школьную стенгазету. - Большая работа, проделанная (страд.) юннатами, была подробно описана в школьной стенгазете. 3) Девушка, прочитавшая (действ.) новую книгу, рассказывала
StudyPort подругам о своем впечатлении от нее. - Новая книга,. прочитаннаяru (страд.) девушкой, была написана ярко и увлекательно 4) Новый
прибор, изобретенный (страд.) инженером, имеет большую ценность.
Инженер, изобретший (действ.) новый прибор, получил премию. 5) Ветер, гонящий (действ.) облака, не утихал ни на минуту - Облака, гонимые (страд.) ветром, быстро неслись по небу.
№ 270. 1) Чуть шелестят листья берез, едва колеблемые (колебать) ветром. 2) Зарево на дальних высотах трепещущим (трепетать) румянцем отразилось. 3) На мысли, дышащие (дышать) силой, как бисер, нижутся слова. 4) Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий (ночевать) обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих (белеть) берез. 5) Русалка плыла по реке голубой, озаряема (озарять) полной луной. 6) И вдруг перед витязем пещера; в пещере свет. Он прямо к ней идет под дремлющие (дремать) своды. 7) После черного подземелья необычайно ярким кажется отраженный снегами, режущий (резать) глаза свет. 8) Добываемый (добывать)

уголь льется непрерывным потоком, грохочущим (грохотать) водопадом валится в трюмы приставшего к пристани корабля. 9) Пышущее (пыхать) здоровьем лицо Марии Андреевны покрылось бледностью. 10) Время от времени впереди на полотне появлялся машущий (махать) флажком связист. 11) Внезапно раздался топот скачущей (скакать) лошади.
№ 271. Мы выходим на лед , покрытый уже исслеженным снегом , ступаем на снег. Скользя по осыпающимся камням , поднимаемся на высокую насыпь , протянувшуюся вдоль открытого, голого берега. Поправив за спиной ружье, застегнув плотно куртку, борясь с тугим, дующим в лицо ветром , я иду берегом. Я смотрю на камни , грудою свалившиеся с берега в море. Солнечный луч, прорвавшись, освещает край черной, нависшей тучи . Я поднимаю бинокль, вглядываюсь в зыблющуюся глубину мертвой пустыни. В белом, сверкающем поле движется желтоватое пятно. Чуждый окружающему миру , маячит в снеговой дымке «Седов».
День и ночь, ночь и день между берегом и кораблем бегает шлюпка , нагруженная для устойчивости ящиками с винтовочными патронами. Хозяева строящейся станции по очереди сменяются на руле.
Покрытый - причастие.
1. От глагола - покрыть.
2. Н.ф. - покрытый.
3. Пост. признаки: страдательное, прош. вр., сов. вид.
4. Непост. признаки: полное, вин. пад., ед. ч., муж. р.
5. Лед (како й ?) покрытый .
Исслеженным - причастие.
1. От глагола - исследить. StudyPort 2. Н.ф. - исслеженный. .ru
3. Пост. признаки: страдательное, прош. вр., сов. вид. 4. Непост. признаки: полное, тв. пад, ед. ч., муж. р. 5. Снегом (каким?) исслеженным .
Осыпающимся - причастие. 1. От глагола - осыпаться. 2. Н.ф. - осыпающийся.
3. Пост. признаки: действительное, наст. вр., несов. вид. 4. Непост. признаки: дат. пад., мн. ч.
5. Камням (каким ?) осыпающимся . Дующим - причастие.
1. От глагола - дуть.
2. Н.ф. - дующий.
3. Пост. признаки: действительное, наст. вр., несов. вид.
4. Непост. признаки: тв. пад., ед. ч., муж. р.
5. Ветром (каким?) дующим .

Протянувшуюся - причастие.
1. От глагола - протянуться.
2. Н.ф. - протянувшийся.
3. Пост. признаки: действительное, прош. время., сов. вид.
4. Непост. признаки: вин. пад., ед. ч., жен. р.
5. Насыпь (каку ю ?) протянувшуюся .
№ 272. 1) Основа´ть - осно´ванн ый - осно´ван - осно´ван а - осно´ ван о - осно´ван ы; прикова´ть - прико´ванн ый - прико´ван - прико´ ван а - прико´ван о - прико´ван ы; изжева´ть - изже´ванн ый - изже´ ван - изже´ван а - изже´ван о - изже´ван ы.
2) Водвори´ть - водворе´ нн ый - водворе´н - водворен а´ - водворен о´ - водворен ы´ ; внедри´ть - внедре´нн ый - внедре´н - внедрен а´ - внедрен о´ - внедрен ы´ ; заключи´ть - заключе´нн ый - заключе´н - заключен а´ - заключен о´ - заключен ы´ ; испе´чь - испече´ нн ый - испече´н - испечен а´ - испечен о´ - испечен ы´ ; перевезти´
Перевезе´ нн ый - перевезе´н - перевезен а´ - перевезен о´ - перевезен ы´ ; просвети´ть - просвеще´нн ый - просвеще´н - просвещен а´
Просвеще н о´ - просвещен ы´ ; посвяти´ть - посвяще´нн ый - посвяще´н - посвящен а´ - посвящен о´ - посвящен ы´ ; реши´ть - реше´ нн ый - реше´н - решен а´ - решен о´ - решен ы´ .
3) Восстанови´ть - восстано´вле нн ый - восстано´влен - восстано´ влен а - восстано´влен о - восстано´влен ы; доба´вить - доба´вленн ый
Доба´вле н - доба´влен а - доба´влен о - доба´влен ы; допили´ть - допи´ленн ый - допи´лен - допи´лен а - допи´лен о - допи´лен ы; заучи´ ть - зау´ченн ый - зау´чен - зау´чен а - зау´чен о - зау´чен ы; обстри´ чь - обстри´женн ый - обстри´жен - обстри´жен а - обстри´жен о -
обстри´жен ы; предусмотре´ть - предусмо´тренн ый - предусмо´трен - StudyPort предусмо´трен а - предусмо´трен о - предусмо´трен ы. .ru № 273. В «Онегине» все части органически сочленены , в избранной
рамке романа своего Пушкин исчерпал всю свою идею, и поэтому в нем ни одной части нельзя ни изменить, ни заменить. «Герой нашего времени» представляет собой несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя. Части этого романа расположены сообразно с внутреннею необходимостью; но как они суть только отдельные случаи из жизни хотя одного и того же человека, то могли б быть заменены другими, ибо вместо приключения в крепости с Бэлой или в Тамани могли б быть подобные же и в других местах, и с другими лицами, хотя при одном и том же герое. Но тем не менее основная мысль автора дает им единство, и общность их впечатления поразительна.
№ 274. I. Раненый боец - израненный солдат; сеяная мука - посеянное зерно; кипяченая вода - вскипяченное молоко; крашеный пол - покрашенный забор; кошеный или некошеный клевер -

скошенная трава; стреляный воробей - подстреленная птица; пуганая ворона - испуганная лошадь; гашеная или негашеная известь
- погашенный костер; тканая скатерть - вытканный ковер; жженый кофе - сожженное письмо; копченая колбаса - закопченные стены; балованный ребенок - избалованное дитя - девочка избалована родителями; кованый меч - некованое железо - скованные движения; стриженый мальчик - стриженные под польку волосы
- остриженная голова; дистиллированная вода; линованная тетрадь; асфальтированная улица.
II. Воспитанный - воспитанн ица; вареный - варен ик; масленый - маслен ица; посланный - посланн ик.
№ 275. I. 1) День был серый и ветреный. Кругом пустынные жнивья и пашни. 2) В небольшом, оклеенном белым, совершенно пустом зале было светло, пахло масляной краской, на блестящем, крашеном полу у стены стояли две китайские вазы. 3) На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные бревна, определенные на вековое стояние... Все было пригнано плотно и как следует. 4) С отчаянным криком Никита кинулся на пол. 5) Смышленый мальчишка понравился матросу. 6) В сенях встретила его [Дубровского] няня и с плачем обняла своего воспитанника. 7) Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса. 8) Зала и гостиная были темны.
II. 1) Иван Ильич и Даша поселились на хуторе в мазаной хате. 2) Алексей развернул тряпочку, вынул вороненые часы. 3) Его нечесаные волосы ниспадали на глаза целой волной. 4) В доме были высокие комнаты с выбеленными стенами и некрашеными полами.
5) Никогда не забуду я эту сказочную прогулку среди высоких со- StudyPort сен по песку, смешанному с хвоей. 6) Свеча была. погашенаru .
7) Степь была пустынна, ужасающе тиха.
№ 276. Иногда я заставал его [Карла Ивановича] и в такие минуты, когда он не читал; очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем. На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна - изрезанная, наша, другая - новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линования, с другой - черная доска.
В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, из-

резанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой - стриженая липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден и луг. (Повествование с элементами описания. )
№ 277. I. Свирепеть - свирепея; кричать - крича; бежать – нельзя; грохотать - грохоча; проповедовать - проповедуя; заведовать - заведуя; тормозить - тормозя; беречь – нельзя; заглядывать - заглядывая; бить – нельзя; быть – будучи; признавать - признавая; визжать - визжа; метить - метя; метать - метая; роптать - ропща; стрекотать - стрекоча; мерзнуть – нельзя; волноваться - волнуясь.
II. Вынести - вынеся; развеять - развеяв; развить - развив; обессилеть - обессилев; обессилить - обессилив; сберечь – сберегши; прикоснуться - прикоснувшись; запрячь – запрягши; запереть - заперев, заперши; отречься - отрекшись; встретить - встретивши; увести - уведя; выгрести - выгребши, выгребя; запыхаться - запыхавшись; присесть - присев; сбежать - сбежав; оставаться - оставшись, сплести - сплетя.
№ 278. 1) Чуть свет я вставал и, наскоро напившись чаю, пускался в путь. 2) Выбрав где-нибудь сухой песчаный берег, я приказывал лодке причаливать к нему. 3) Большими спиральными кругами на-
чал спускаться он [орлан] из-под облаков и, сев спокойно на землю,
StudyPort тотчас унял спор и драку между воронами, принявшись. сам ru доедать остаток рыбы. 4) Обиженные вороны сидели вокруг, каркали, не
смея подступить к суровому царю, и только изредка урывали сзади небольшие кусочки. 5) Оставив деревню Никольскую, я поплыл вниз по реке. 6) Ночью горящие палы представляют великолепную картину. Извиваясь змеей, бежит огненная струя и вдруг, встречая массы более сухой и высокой травы, вспыхивает ярким пламенем и опять движется далее узкой лентой. 7) Поднявшись с восходом солнца и указав направление, по которому нужно идти, мы отправились с товарищем вперед.
Унял - глагол.
1. Н.ф. - унять.
2. Пост. признаки: сов. вид, 1 спр., переход., невозв.
3. Непост. признаки: изъявит. накл., ед. ч., прош. вр., муж. р.
4. Он (что сделал?) унял .

Принявшись - деепричастие.
1. От глагола приняться.
2. Сов. вид.
3. Неизменяемость.
4. Унял (как?) принявшис ь ...
№ 279. 1) Дойдя до реки, мы устроили привал. 2) Плывя в лодке, путешественники видели по берегам реки множество птиц. 3) Заметив со всех сторон лодки и людей, стадо диких коз бросилось врассыпную. 4) Собираясь в поход, ребята тщательно продумали все детали путешествия. 5) Подъезжая к станции, пассажиры забеспокоились и стали собирать вещи. 6) Набирая скорость, поезд быстро приближался к горному перевалу.
№ 280. 1) | Оставшись одн а| , она [Ниловна] подошла к окну и встала перед ним, | гляд я на улицу| . 2) В сенях зашаркали чьи-то шаги, мать вздрогнула и, | напряженно подняв брови | , встала. 3) | Улыбаясь| , она прислушивалась к разговору в комнате. 4) Он [Челкаш] пошел, | пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки | , а | правой дерга я свой бурый ус | . 5) Он шел, | не торопяс ь, твердо ударяя ног а- ми в землю | . 6) Маленький Федя, | слуша я чтение | , беззвучно двигал губами, | точн о повторяя слов а книги| , а его товарищ согнулся, | постави в локт и на колена | , и | подпирая скулы ладонями | , задумчиво улыбался. 7) Мать, | стараяс ь не шуметь посудой | , наливала чай и вслушивалась в плавную речь девушки. 8) Толпа солдат вздрогнула
и растворилась, как две половины деревянных ворот; | танцуя и фыркая| , между ними проехали лошади, раздался крик офицера.
№ 281. 1) Я не раз безудержно смеялся, глядя комедию «Ревизор».
StudyPort 2) Читая пьесу, я живо представлял себе ее персонажей. 3)ru После просмотра такой постановки сразу напрашивается вывод о жизни за
стенами костылевской ночлежки. 4) Приехав из города, Давыдов столкнулся с рядом трудностей. 5) Множество городов и деревень было уничтожено фашистами, лишившими тем самым население крова. 6) На входе в кочегарку нас обдало жаром. 7) Услышав о разведке, Петя повеселел.
1. Непоэтическое изложение стихотворения Некрасова «Несжатая полоса».
2. Восприятие Некрасова.
3. Доказательство силы слова, творческого процесса.
I. Творческий процесс - вещь неизмеримо более сложная, нежели умение стандартно пользоваться так называемыми правилами стихосложения…
Здесь я хотел бы привести один пример. Я сошлюсь на известное стихотворение Некрасова «Несжатая полоса». Как вы помните, содержание его таково: наступила поздняя осень, а в поле все еще стоит несжатая крестьянская полоса. Не сжата она потому, что ее хозяин надорвался на работе и тяжко заболел.
Я изложил это событие довольно точно, но в моей передаче оно все же не производит ровно никакого впечатления.
В данном случае я это сделал нарочно: сделал для того, чтобы показать , как много зависит от поэта, от того духовного поэтического «вклада», который он вносит в жизненный материал, положенный в основу произведения.
: , (чтобы…), (как…), (который…).
II. Теперь посмотрим, как это же событие воспринял и передал читателю Некрасов...
С первых же строк вас берет за сердце какая-то щемящая боль, хотя вы вначале, может быть, даже и не знаете, для чего поэт начал свой разговор. Вас охватывает жалость к этой одинокой крестьянской полоске, которую «и буря, и заяц топчет, и птицы разоряют».
И чем дальше вы читаете, тем все ощутимей, все ярче встает перед вами образ русского мужика, задавленного нуждой и непосильной работой, и не только образ данного конкретного мужика, о котором говорится в стихотворении, но и образ всех подобных ему, образ тогдашней деревни, подневольной, нищей, разоренной, темной...
Дело все в том, что Некрасов за, казалось бы, рядовым, незначительным фактом увидел гораздо больше того, что можно увидеть при поверхностном рассмотрении. Светом своего поэтического та-
StudyPort ланта он проник в него и осветил те его стороны, которые. наru первый взгляд были незаметны. Он нашел в своем сердце такие взволно-
ванные, такие проникновенные поэтические слова, которым нельзя не поверить. Это были слова глубоко прочувствованные, выношенные, слова, если хотите, выстраданные. Это были те единственные, незаменимые слова, при помощи которых только и можно было с наибольшей полнотой и убедительностью сказать то, что хотел ска-
зать Некрасов. (Рассуждение, художественный стиль.)
№ 283. Дистиллированный, компоновать, комбинировать, следующий, будущность страны, сведущий, аннулировать результаты, апеллировать, мультипликационный, стипендия, коллоквиум, сенсация, сенсационный репортаж, селекция, селекционный.
№ 284.
Спокойно - наречие.
1. Наречие образа действия.
2. Прошла (как?) спокойн о .

Справа - наречие.
1. Наречие места.
2. Послышался (гд е ?) справ а. Невысоко - наречие.
1. Наречие места.
2. Стояла (ка к ?) невысоко. Заново - наречие.
1. Наречие образа действия.
2. Началось (как?) занов о . По-осеннему - наречие.
1. Наречие образа действия.
2. Багрового (как?) по-осеннему .
Спокойно, справа, невысоко, заново, по-осеннему.
№ 285. 1) Море взволнованно. 2) Охотник взволнованно рассказывал о встрече с медведем. 3) Дитя испугано неожиданным выстрелом. 4) Ребенок испуганно вскрикнул. 5) Все в этом деле взвешенно и обдуманно. 6) Докладчик отвечал на вопросы не спеша, обдуманно. 7) Выступление было организовано драматическим кружком школы. 8) Выступление прошло очень организованно, по строгому плану. 9) Мой товарищ - всесторонне развитой человек. 10) На запасных путях, у разбросанных вагонов, где временно жили железнодорожники, копаются в песке дети. 11) Я очень ветрено, быть может, поступила.
№ 286. 1) Лошади шарахнулись и рванулись вскачь. 2) Филофей не-
сколько раз провел рукой наотмашь. 3) Было далеко за полночь. StudyPort 4) Она [Наташа] распахнула настежь окно. 5) Черные тучи. , ru сплошь покрывшие небо, тихо сеяли мелкий дождь. 6) Петр упал навзничь.
7) Мимо прошел последний вагон и покатился прочь. 8) Анна Сергеевна недавно вышла замуж. 9) Уж небо осенью дышало. 10) И стало спорить ей [Неве] невмочь.
№ 287. 1) Налево был угрюмый лес, направо Енисей. 2) Смотри, гроза поднимается слева. 3) Русское население издавна живет на Белом море. 4) Снова тучи надо мною собралися в вышине. 5) Обстоятельства разлучили их надолго. 6) Береги честь смолоду. 7) Кирила Петрович заезжал запросто в домишко своего старого товарища. 8) Стало сызнова смеркаться; средний брат пошел сбираться. 9) Гостиная и зала понемногу наполнялись гостями. 10) У Кати для раздумья времени было досыта. 11) Нева точно спала; изредка, будто впросонках, она плеснет легонько волной о берег и замолчит. 12) Представители враждебной стороны вели себя на конференции

вызывающе. 13) Он поглядел на меня и угрожающе поднял руку. 14) Публика горячо аплодировала певцу.
№ 288. Никому ´ (мест) не говорить, ни к кому ´ (мест) не обращаться, никуда ´ (мест нар)не ездить; никого ´ (мест) не спрашивать, ни от кого ´ (мест) не зависеть, ниотку´да (мест нар) не получать писем; не´кем (мест) заменить, не´ с кем (мест) переслать, не´где (мест нар) разместить; не´ о чем (мест) говорить, ни о че ´м (мест) не спорить, не´зачем (мест нар) понапрасну беспокоиться; не´кого (мест) позвать, не´ от кого (мест) ждать телеграммы; не´откуда (мест нар) позвонить по телефону, нима´ло (мест нар) не беспокоиться, ниско´лько (мест нар) не волноваться, ничу´ть (мест нар) не тревожиться, приобрести не´ сколько (мест нар) книг, никогда ´ (мест нар) не унывать, ни от чего ´ (мест) не падать духом, ничего ´ (мест) не скрывать.
№ 289. 1) Настала ночь. Никто´ во граде очей бессонных не смыкал. 2) Обломовцы ниотку´да не получали новейших известий, да и не´откуда их было получать. 3) Сочувствий он [Лучков] ни в ко´м возбуждать не мог. 4) Не´сколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его [оврага] бокам. Невеселый вид, не´чего сказать. 5) Ни в како´е время Колотовка не представляет отрадного зрелища. 6) Он [Моргач] не´когда был кучером. 7) Я остался ни с че´м, ни при че´м. 8) Но скалы, и тайные мели, и бури ему ни по че´м. 9) Дожди иногда лились потоками, но ниско´лько не прохлаждали атмосферы.
№ 290. Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне, да
она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и StudyPort равнодушен в одно и то же время; ее сомнения не утихали. никогдаru до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она
богата и независима, она, быть может, бросилась в битву, узнала бы страсть.
Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь.
(, (хотя…), и .) Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала , когда они угасали, и не жалела о них.
(, но [ ,(когда…) ].) Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно стройном и спокойном теле.
настоящему понравился ей [Даше] только Телегин. 4) Небо повесеннему безоблачно, и ослепительно блестит степь. 5) Малопомалу стемнело. 6) Говорил Гречкин многозначительно, поволжски окая. 7) Ямщики засвистели по-степному, сытые тройки рванули вскачь. 8) Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся. 9) По-прежнему качается пароход. 10) Боцман все-таки поступил по-своему. 11) Герман волею-неволею согласился быть моим помощником. 12) В чертах у Ольги жизни нет, точь-в-точь в Вандиковой Мадонне. 13) Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение. 14) Он [Андрей Болконский] предполагал, вопервых, сосредоточить всю артиллерию в центре, во-вторых, кавалерию перевести назад, на ту сторону оврага. 15) Покрытая багровым облаком всходила луна и еле-еле освещала дорогу.
№ 292. Жить по-новому, запомнить крепко-накрепко, говорить с глазу на глаз, исполнить точка в точку, хлопотать по-пустому, тратить время попусту, пойти куда-либо, знать мало-мальски, приделать ши- ворот-навыворот, приехать нежданно-негаданно, продвигаться шаг за шагом, прибыть вовремя, выдать уголь на-гора, согласиться в конце концов, распределить поровну, сделать получше и покрасивее, ворочаться с боку на бок, сегодня, по-видимому, будет дождь.
№ 293. Навсегда запомнить, перенести на послезавтра , отложить до завтра , жить напротив , видеть насквозь , свести на нет , сохранить доныне , сложить вдвое , разделить надвое , идти по одному , думать по-своему , плыть по двое , увеличиваться понемногу , сказать сгоряча , биться врукопашную , окончить вничью , действовать в открытую , решить в общем , говорить вообще .
StudyPort Слышится сверху, прыгнуть вверх, посмотреть наверх.ru Подойти снизу, спуститься вниз, виднелось внизу.
Обогнать спереди, идти впереди, знать наперед. Ударить сбоку, подвинуться вбок, повернуться набок
№ 295. Мчаться ввысь, нырнуть вглубь, посмотреть вдаль, расти
вширь, встать вокруг, вовек не попасть, не понять вначале, вновь удариться.
№ 296. Запомнить навек, навеки, записаться накануне, прийти тотчас, побежать вдогонку, разбить вдребезги, сгореть дотла, обращаться запанибрата, подготовить исподволь, смотреть исподлобья, ударить исподтишка, схватить в охапку, глядеть в упор, рассчитывать наверняка, считать подряд, соскочить на ходу, стрелять на лету, спрашивать поодиночке, собираться спозаранку, измучиться вконец, сделать в отместку, покупать нарасхват, нужно до зарезу, работать без устали, танцевать до упаду, заполнить до отказа.
XIII Операция по захвату города началась рано утром. Пехотные части, имея на флангах и в резерве кавалерию, должны были повести наступление от леса с рассветом. Где-то произошла путаница: два полка пехоты не пришли вовремя; 211-й стрелковый полк получил распоряжение переброситься на левый фланг; во время обходного движения, предпринятого другим полком, его обстреляла своя же батарея; творилось несуразное, губительная путаница коверкала планы, и наступление грозило окончиться если не разгромом наступающих, то, во всяком случае, неудачей. Пока перетасовывалась пехота и выручали артиллеристы упряжки и орудия, по чьему-то распоряжению направленные ночью в болото, 11-я дивизия пошла в наступление. Лесистая и болотистая местность не позволяла атаковать противника широким фронтом, на некоторых участках эскадронам нашей кавалерии приходилось идти в атаку повзводно. Четвертая и пятая сотни 12-го полка были отведены в резерв, остальные уже втянулись в волну наступления, и до оставшихся донесло через четверть часа гул и трясучий рвущийся вой: - "Ррр-а-а-а-а - р-а-а-а-а - ррр-а-а-а!.." - Тронулись наши! - Пошли. - Пулемет-то частит. - Наших, должно, выкашивает... - Замолчали, а? - Добираются, значит. - Зараз и мы любовнику потянем, - отрывочно переговаривались казаки. Сотни стояли на лесной поляне. Крутые сосны жали глаз. Мимо, чуть не на рысях, прошла рота солдат. Молодецки затянутый фельдфебель приотстал; пропуская последние ряды, крикнул хрипато: - Не мни ряды! Рота протопотала, звякая манерками, и скрылась за ольховой зарослью. Совсем издалека, из-за лесистого увала, удаляясь, опять приплыл ослабевший перекатистый крик: "Ра-аа - а-урр-ррра-а-а!.. Аа-а!.." - и сразу, как обрезанный, крик смолк. Густая, нудная нависла тишина. - Вот когда добрались! - Ломают один одного... Секутся! Все напряженно вслушивались, но тишина стояла непроницаемая. На правом фланге громила наступающих австрийская артиллерия и частой строчкой прошивали слух пулеметы. Мелехов Григорий оглядывал взвод. Казаки нервничали, кони беспокоились, будто овод жалил. Чубатый, повесив на луку фуражку, вытирал сизую потную лысину, рядом с Григорием жадно напивался махорочным дымом Мишка Кошевой. Все предметы вокруг были отчетливо и преувеличенно реальны, - так бывает, когда не спишь всю ночь. Сотни простояли в резерве часа три. Стрельба утихала и нарастала с новой силой. Над ними прострекотал и дал несколько кругов чей-то аэроплан. Он кружился на недоступной высоте и полетел на восток, забирая все выше; под ним в голубом плесе вспыхнули молочные дымки шрапнельных разрывов: били из зенитки. Резерв ввели в дело к полудню. Уже искурен был весь запас махорки и люди изныли в ожидании, когда прискакал ординарец-гусар. Сейчас же командир четвертой сотни вывел сотню на просеку и повел куда-то в сторону. (Григорию казалось, что едут они назад.) Минут двадцать ехали по чаще, смяв построение. К ним все ближе подползали звуки боя; где-то неподалеку, сзади, беглым огнем садила батарея; над ними с клекотом и скрежетом, одолевая сопротивление воздуха, проносились снаряды. Сотня, расчлененная блужданием по лесу, в беспорядке высыпала на чистое. В полуверсте от них на опушке венгерские гусары рубили прислугу русской батареи. - Сотня, стройся! Не успели разомкнуть строй: - Сотня, шашки вон, в атаку марш-э-марш! Голубой ливень клинков. Сотня, увеличивая рысь, перешла в намет. Возле запряжки крайнего орудия суетилось человек шесть венгерских гусар. Один из них тянул под уздцы взноровившихся лошадей; второй бил их палашом, остальные, спешенные, пытались стронуть орудие, помогали, вцепившись в спины колес. В стороне на куцехвостой шоколадной масти кобылице гарцевал офицер. Он отдавал приказание. Венгерцы увидели казаков и, бросив оружие, поскакали. "Вот так, вот так, вот так!" - мысленно отсчитывал Григорий конские броски. Нога его на секунду потеряла стремя, и он, чувствуя свое неустойчивое положение в седле, ловил стремя с внутренним страхом; свесившись, поймал, вдел носок и, подняв глаза, увидел орудийную запряжку шестерней, на передней - обнявшего руками конскую шею зарубленного ездового, в заплавленной кровью и мозгами рубахе. Копыта коня опустились на хрустнувшее под ними тело убитого номерного. Возле опрокинутого зарядного ящика лежало еще двое, третий навзничь распластался на лафете. Опередив Григория, скакал Силантьев. Его почти в упор застрелил венгерский офицер на куцехвостой кобылице. Подпрыгнув на седле, Силантьев падал, ловил, обнимал руками голубую даль... Григорий дернул поводья, норовя зайти с подручной стороны, чтобы удобней было рубить; офицер, заметив его маневр, выстрелил из-под руки. Он расстрелял в Григория револьверную обойму и выхватил палаш. Три сокрушительных удара он, как видно искусный фехтовальщик, отразил играючи. Григорий, кривя рот, настиг его в четвертый раз, привстал на стременах (лошади их скакали почти рядом, и Григорий видел пепельно-серую, тугую, бритую щеку венгерца и номерную нашивку на воротнике мундира), он обманул бдительность венгерца ложным взмахом и, изменив направление удара, пырнул концом шашки, второй удар нанес в шею, где кончается позвоночный столб. Венгерец, роняя руку с палашом и поводья, выпрямился, выгнул грудь, как от укуса, слег на луку седла. Чувствуя чудовищное облегчение, Григорий рубанул его по голове. Он видел, как шашка по стоки въелась в кость выше уха. Страшный удар в голову сзади вырвал у Григория сознание. Он ощутил во рту горячий рассол крови и понял, что падает, - откуда-то сбоку, кружась, стремительно неслась на него одетая жнивьем земля. Жесткий толчок при падении на секунду вернул его к действительности. Он открыл глаза; омывая, их залила кровь. Топот возле уха и тяжкий дух лошади: "хап, хап, хап!" В последний раз открыл Григорий глаза, увидел раздутые розовые ноздри лошади, чей-то пронизавший стремя сапог. "Все", - змейкой скользнула облегчающая мысль. Гул и черная пустота. XIV В первых числах августа сотник Евгений Листницкий решил перевестись из лейб-гвардии Атаманского полка в какой-либо казачий армейский полк. Он подал рапорт и через три недели выхлопотал себе назначение в один из полков, находившихся в действующей армии. Оформив назначение, он перед отъездом из Петрограда известил отца о принятом решении коротким письмом: "Папа, я хлопотал о переводе меня из Атаманского полка в армию. Сегодня я получил назначение и уезжаю в распоряжение командира 2-го корпуса. Вас, по всей вероятности, удивит принятое мною решение, но я объясняю его следующим образом: меня тяготила та обстановка, в которой приходилось вращаться. Парады, встречи, караулы - вся эта дворцовая служба набила мне оскомину. Приелось все это до тошноты, хочется живого дела и... если хотите - подвига. Надо полагать, что во мне сказывается славная кровь Листницких, тех, которые, начиная с Отечественной войны, вплетали лавры в венок русского оружия. Еду на фронт. Прошу вашего благословения. На той неделе я видел императора перед отъездом в Ставку. Я обожествляю этого человека. Я стоял во внутреннем карауле во дворце. Он шел с Родзянко и, проходя мимо меня, улыбнулся, указывая на меня глазами, сказал по-английски: "Вот моя славная гвардия. Ею в свое время я побью карту Вильгельма". Я обожаю его, как институтка. Мне не стыдно признаться вам в этом, даже несмотря на то, что мне перевалило за 28. Меня глубоко волнуют те дворцовые сплетни, которые паутиной кутают светлое имя монарха. Я им не верю и не могу верить. На днях я едва не застрелил есаула Громова за то, что он в моем присутствии осмелился непочтительно отозваться об ее императорском величестве. Это гнусно, и я ему сказал, что только люди, в жилах которых течет холопская кровь, могут унизиться до грязной сплетни. Этот инцидент произошел в присутствии нескольких офицеров. Меня охватил пароксизм бешенства, я вытащил револьвер и хотел истратить одну пулю на хама, но меня обезоружили товарищи. С каждым днем мне все тяжелее было пребывать в этой клоаке. В гвардейских полках - в офицерстве, в частности, - нет того подлинного патриотизма, страшно сказать - нет даже любви к династии. Это не дворянство, а сброд. Этим, в сущности, и объясняется мой разрыв с полком. Я не могу общаться с людьми, которых не уважаю. Ну, кажется, все. Простите за некоторую несвязность, спешу, надо увязать чемодан и ехать к коменданту. Будьте здоровы, папа. Из армии пришлю подробное письмо. Ваш Евгений". Поезд на Варшаву отходил в восемь часов вечера. Листницкий на извозчике доехал до вокзала. Позади в сизовато-голубом мерцании огней лег Петроград. На вокзале тесно и шумно. Преобладают военные. Носильщик уложил чемодан Листницкого и, получив мелочь, пожелал их благородию счастливого пути. Листницкий снял портупею и шинель, развязал ремни, постелил на скамье цветастое шелковое кавказское одеяло. Внизу, у окна, разложив на столике домашнюю снедь, закусывал худой, с лицом аскета, священник. Отряхивая с волокнистой бороды хлебные крошки, он угощал сидевшую против него смуглую москлявенькую девушку в форме гимназистки. - Отпробуйте-ко. А? - Благодарю вас. - Полноте стесняться, вам, при вашей комплекции, надо больше кушать. - Спасибо. - Ну вот ватрушечки испробуйте. Может быть, вы, господин офицер, отведаете? Листницкий свесил голову. - Вы мне? - Да, да. - Священник буравил его угрюмыми глазами и улыбался одними тонкими глазами под невеселой порослью волокнистых, в проталинках усов. - Спасибо. Не хочу. - Напрасно. Входящее в уста не оскверняет. Вы не в армию? - Да. - Помогай вам бог. Листницкий сквозь пленку дремы ощущал будто издалека добиравшийся до слуха густой голос священника, и мнилось уже, что это не священник говорит жалующимся басом, а есаул Громов. - ...Семья, знаете ли, бедный приход. Вот и еду в полковые духовники. Русский народ не может без веры. И год от году, знаете ли, вера крепнет. Есть, конечно, такие, что отходят, но это из интеллигенции, а мужик за бога крепко держится. Да... Вот так-то... - вздохнул бас, и опять поток слов, уже не проникающих в сознание. Листницкий засыпал. Последнее, что ощутил наяву, - запас свежей краски дощатого в мелкую полоску потолка и окрик за окном: - Багажная принимала, а мне дела нет! "Что багажная принимала?" - ворохнулось сознание, и ниточка незаметно оборвалась. Освежающий после двух бессонных ночей, навалился сон. Проснулся Листницкий, когда поезд оторвал уже от Петрограда верст сорок пространства. Ритмично татакали колеса, вагон качался, волнуемый рывками паровоза, где-то в соседнем купе вполголоса пели, лиловые косые тени бросал фонарь. Полк, в который получил назначение сотник Листницкий, понес крупный урон в последних боях, был выведен из сферы боев и спешно ремонтировался конским составом, пополнялся людьми. Штаб полка находился в большой торговой деревне Березняги. Листницкий вышел из вагона на каком-то безымянном полустанке. Там же выгрузился походный лазарет. Справившись у доктора, куда направляется лазарет, Листницкий узнал, что он перебрасывается с Юго-Западного фронта на этот участок и сейчас же тронется по маршруту Березняги - Ивановка - Крышовинское. Большой багровый доктор очень нелюбезно отзывался о своем непосредственном начальстве, громил штабных из дивизии и, лохматя бороду, поблескивая из-под золотого пенсне злыми глазами, изливал свою желчную горечь перед случайным собеседником. - Вы меня можете подвезти до Березнягов? - перебил его на полуслове Листницкий. - Садитесь, сотник, на двуколку. Поезжайте, - согласился доктор и, фамильярно покручивая пуговицу на шинели сотника, ища сочувствия, грохотал сдержанным басом: - Ведь вы подумайте, сотник: протряслись двести верст в скотских вагонах для того, чтобы слоняться тут без дела, в то время как на том участке, откуда мой лазарет перебросили, два дня шли кровопролитнейшие бои, осталась масса раненых, которым срочно нужна была наша помощь. - Доктор со злым сладострастием повторил: "кровопролитнейшие бои", налегая на "р", прирыкивая. - Чем объяснить эту несуразицу? - из вежливости поинтересовался сотник. - Чем? - Доктор иронически вспялил поверх пенсне брови, рыкнул: - Безалаберщиной, бестолковщиной, глупостью начальствующего состава, вот чем! Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здравого ума. Помните Вересаева "Записки врача"? Вот-с! Повторяем в квадрате-с. Листницкий откозырял, направился к транспорту, вслед ему каркал сердитый доктор: - Проиграем войну, сотник! Японцам проиграли и не поумнели. Шапками закидаем, так что уж там... - и пошел по путям, перешагивая лужицы, задернутые нефтяными радужными блестками, сокрушенно мотая головой. Смеркалось, когда лазарет подъехал к Березнягам. Желтую щетину жнивья перебирал ветер. На западе корячились, громоздясь, тучи. Вверху фиолетово чернели, чуть ниже утрачивали чудовищную свою окраску и, меняя тона, лили на тусклую ряднину неба нежно-сиреневые дымчатые отсветы; в средине вся эта бесформенная громада, набитая как крыги в ледоход на заторе, рассачивалась, и в пролом неослабно струился апельсинного цвета поток закатных лучей. Он расходился брызжущим веером, преломляясь и пылясь, вонзался отвесно, а ниже пролома неописуемо сплетался в вакханальный спектр красок. У придорожной канавы лежала пристреленная рыжая лошадь. Задняя нога ее, дико задранная кверху, блестела полустертой подковой. Листницкий, подпрыгивая на двуколке, разглядывал лошадиный труп. Ехавший с ним санитар пояснил, сплевывая на вздувшийся живот лошади: - Зерна обожралась... объелась, - поправил он, взглянув на сотника; хотел еще раз сплюнуть, но слюну проглотил из вежливости, вытер губы рукавом гимнастерки. - Издохла - а убрать не надо... У германцев, у тех не по-нашему. - А ты почем знаешь? - беспричинно злобно спросил Листницкий и в этот момент так же беспричинно и остро возненавидел равнодушное, с оттенком превосходства и презрения, лицо санитара. Оно было серовато, скучно, как сентябрьское поле в жнивье; ничем не отличалось от тысячи других мужицко-солдатских лиц, тех, которые встречал и догонял сотник на пути от Петрограда к фронту. Все они казались какими-то вылинявшими, тупое застыло в серых, голубых, зеленоватых и иных глазах, и крепко напоминали хожалые, давнишнего чекана медные монеты. - Я в Германии три года до войны прожил, - не спеша ответил санитар. В оттенке его голоса прозвучало то же превосходство и презрение, которое уловил сотник во взгляде. - Я в Кенисберге на сигарной фабрике работал, - скучающе ронял санитар, погоняя маштака узлом ременной вожжи. - Помолчи-ка! - строго сказал Листницкий и повернулся, оглядывая голову лошади с упавшей на глаза челкой и обнаженным, обветревшим на солнце навесом зубов. Нога ее, задранная кверху, была согнута в коленном сгибе, копыто чуть растрескалось от ухналей, но раковина плотно светлела сизым глянцем, и сотник по ноге, по тонкой точеной бабке определил, что лошадь была молодая и хорошей породы. Двуколка, подпрыгивая по кочковатому проселку, отъезжала дальше. Меркли краски на западной концевине неба, рассасывал ветер тучи. Нога мертвой лошади чернела сзади безголовой часовней. Листницкий все смотрел на нее, и вдруг на лошадь круговиной упал снопик лучей, и нога с плотно прилегшей рыжей шерстью неотразимо зацвела, как некая чудесная безлистая ветвь, окрашенная апельсинным цветом. Уже на въезде в Березняги лазарет встретился с транспортом раненых. Пожилой бритый белорус - хозяин первой подводы - шел около лошади, намотав на руку веревочные вожжи. На повозке, облокотившись, лежал казак без фуражки, с забинтованной головой. Он, устало закрыв глаза, жевал хлеб и выплевывал черную пережеванную кашицу. С ним рядом лежал плашмя солдат. На ягодицах у него топорщились безобразно изорванные, покоробленные от спекшейся крови штаны. Солдат, не поднимая головы, дико ругался. Листницкий ужаснулся, вслушиваясь в интонацию голоса: так истово молятся крепко верующие. На второй повозке внакат лежало человек шесть солдат. Один из них, лихорадочно веселый, рассказывал, щуря воспаленные, горячечные глаза: - ...будто приезжал посол от ихого инператора и делал предлог заключать мир. Главное - верный человек; в надеже я - он не сбрешет. - Навряд, - сомневался второй, качая круглой головой со следами давнишней золотухи. - Подожди, Филипп, могет быть, что и правда, приезжал, - мягким волжским говорком отзывался третий, сидевший к встречным спиной. На пятой подводе краснели околыши казачьих фуражек. Трое казаков удобно разместились на широком возу, молча глядели на Листницкого, и на их запыленных суровых лицах не было и тени той почтительности, которую видишь в строю. - Здорово, станичники! - приветствовал их сотник. - Здравия желаем, - вяло ответил ближайший к подводчику, красивый серебряноусый и бровястый казак. - Какого полка? - спросил Листницкий, пытаясь разглядеть номер на синем погоне казака. - Двенадцатого. - Где сейчас ваш полк? - Не могем знать. - Ну, где вас ранило? - Под деревней тут... недалеко. Казаки о чем-то пошептались, и один из них, придерживая здоровой рукой раненую, завязанную холстинным лоскутом, соскочил с повозки. - Ваше благородие, погодите чудок. - Он бережно нес простреленную, тронутую воспалением руку, шел по дороге, улыбаясь Листницкому и увалисто переставляя босые ноги. - Вы не Вешенской станицы? Не Листницкий? - Да-да. - То-то мы угадали. Ваше благородие, не будет ли закурить? Угостите, Христа ради, помираем без табаку! Он держался за крашеный бок двуколки, шел рядом, Листницкий достал портсигар. - Вы б нам уважили с десяточек. Нас ить трое, - просительно улыбнулся казак. Листницкий высыпал ему на коричневую объемистую ладонь весь запас папирос, спросил: - Много в полку раненых? - Десятка два. - Потери большие? - Много побито. Зажгите, ваш благородие, огоньку. Благодарствуйте. - Казак, прикуривая, отстал, крикнул вдогон: - С Татарского хутора, что возля вашего имения, троих ноне убило. Попятнили казаков. Он махнул рукой и пошел догонять свою подводу. Ветер ворошил на нем неподпоясанную защитную гимнастерку. Командир полка, в который получил назначение сотник Листницкий, стоял в Березнягах на квартире у священника. Сотник распрощался на площади с врачом, гостеприимно предоставившим ему место на санитарной двуколке, и пошел, на ходу отряхивая мундир от пыли, расспрашивая встречных о местопребывании штаба полка. Навстречу ему пламенно-рыжий бородач фельдфебель вел солдата в караул. Он козырнул сотнику, не теряя ноги, ответил на вопрос и указал дом. В помещении штаба было затишно, как и во всяком штабе, находящемся далеко от передовых позиций. Писари никли над большим столом, у трубки полевого телефона пересмеивался с невидимым собеседником престарелый есаул. На окнах просторной хаты брунжали мухи, и по-комариному ныли далекие телефонные звонки. Вестовой провел сотника к командиру полка на квартиру. В передней недружелюбно встретил его высокий, с треугольным шрамом на подбородке, чем-то расстроенный полковник. - Я командир полка, - ответил он на вопрос и, выслушав о том, что сотник честь имеет явиться в его распоряжение, молча, движением руки пригласил его в комнату. Уж закрывая дверь за собой, он поправил волосы жестом беспредельной усталости, сказал мягким монотонным голосом: - Мне вчера передали об этом из штаба бригады. Прошу садиться. Он расспрашивал Листницкого о прежней службе, о столичных новостях, о дороге; и за все время короткого их разговора ни разу не поднял на собеседника отягощенных какой-то большою усталостью глаз. "Надо полагать, что задалось ему на фронте. Вид у него смертельно усталый", - соболезнующе подумал сотник, разглядывая высокий умный лоб полковника. Но тот, словно разубеждая его, эфесом шашки почесал переносье, сказал: - Подите, сотник, познакомьтесь с офицерами, я, знаете ли, не спал три ночи. В этой глухомани нам, кроме карт и пьянства, нечего делать. Листницкий, козыряя, таил в усмешке жесткое презренье. Он ушел, неприязненно вспоминая встречу, иронизируя над тем уважением, которое невольно внушили ему усталый вид и шрам на широком подбородке полковника.Машину я оставил на улице под липами – они сильно выросли, – а сам зашел под каменный свод ворот и оглядел двор. Все тут было прежним, как двадцать пять лет назад. Справа – красного кирпича стена потребсоюзовского склада, слева – пыльная трущобка индивидуальных сараев, а в глубине двора – уборная, помойка и длинная приземистая арка глухих ворот. Там в углу в благословенном полумраке, навеки пропахшем карболкой и крысоединой, я и поймал двадцать пять лет тому назад чьего-то петуха – оранжевого, смирного и теплого. Я спрятал его под полу зипуна, и всю ночь мы просидели с ним в городском парке недалеко от базара. Через ровные промежутки времени я пересаживал петуха на другое место – то под левую, то под правую мышку, – это было в марте, и каждый раз, повозясь и успокоясь под зипуном, петух порывался запеть. Утром я продал его за шесть рублей. Этого мне вполне хватило, чтобы отправиться дальше, в Москву…
Да, все в этом дворе было мне памятно, все оказалось непреложно сущим, нужным моей жизни. Стоило ли его стыдиться и вычеркивать из памяти? Я не стал долго раздумывать над тем, что скажу незнакомым людям, и вошел в пахучий коридор знакомого серого дома. Жили тут густо. Я насчитал пять дверей направо и шесть налево, и все они были обиты по-разному и разным. Я выбрал дверь под войлоком, – тут должны обитать люди пожилые, – и постучал, прислушиваясь к тому, что выделывало мое сердце: оно билось так же трепетно и гулко, как и тогда, с петухом.
Открыла мне маленькая ладная старушка в белом фартуке и белом платке.
– А он только что уехал на речку, – хлопотливо сказала она. – Нешто вы не встретились?
Она обозналась – в коридоре был сумрак и чад.
– Я не к нему. Я к вам, – сказал я.
– Ах ты господи прости, а я подумала – Виктор…
Женщина кругло поклонилась мне, приглашая, и попятилась в комнату. Я вошел, встал у дверей и стащил берет, – в углу под потолком висела икона, а перед нею на цепочке из канцелярских скрепок покачивалась стограммовая рюмка и в ней, накренясь к иконе, стояла и горела толстая стеариновая свечка.
Икона, цепочка из скрепок и эта наша парафиновая советская свеча подействовали на меня ободряюще, – тут умели ладить со многим и разным, и я сказал:
– В тридцать седьмом году в вашем дворе я… украл петуха. Красный такой… Случайно не знаете, чей он был?
Я только потом понял, что так нельзя было говорить, – можно же напугать человека, но женщина, окинув меня взглядом, спокойно, хотя и не сразу, сказала:
– Да это небось дядин Васин… Дворника. Теперь он померши давно, царство ему небесное… А вы что ж, с нужды али так на что… взяли-то?
Я объяснил.
– А кочеток ничего себе был? Справный?
– По-моему, ничего… Веселый такой, – сказал я.
– Дядин Васин. Один он держал тут… А вы по тем временам прогадали. Четвертной надо было просить, раз уж…
Она замолчала, скорбно глядя на меня, и было непонятно, за что меня осуждали: за то ли, что я продешевил петуха, или же за то, что украл его у дяди Васи.
– Я думал… может, заплатить кому-нибудь… или вообще как-то уладить все, – сказал я.
– Бог знает, что вы буровите! – суеверно прошептала старушка, но лицо ее вдруг стало таким, будто она только что умылась колодезной водой. – Это кто ж от вас примет деньги… заместо мертвого-то! Да и зачем нужно? Ну взяли когдась кочетка и взяли! Ить небось на пользу вышло? Что ж теперь вспоминать всякое!..
Она смотрела на меня как-то соучастно-родственно. Я шел по коридору, а она семенила рядом в своем белом платке и фартуке, беспокойная, раскрасневшаяся, и опасливо – как бы нас не услыхали – советовала мне шепотом, чтобы я больше никому и не говорил о петухе.
У ворот я встал спиной к липам и произнес горячую, бестолково благодарную речь старушке и всему двору. Я хотел проститься с нею именно здесь: нельзя же, чтобы она увидела мою «Волгу» – новую, роскошно-небесную, черт бы ее взял! Но она, выслушав и приняв все, как свое законное, повлекла меня на улицу и там, не взглянув в сторону лип, сказала:
– Не стыдись. Мы люди свои… Садись и поезжай куда тебе надо!..
Я ехал в Ракитное – большое полустепное село, затонувшее во ржи и сливовых садах. Мне не помнится, чтобы там стояли зимы: я унес оттуда никогда не потухающее солнце, речку, тугой перегуд шмелей в цветущей акации, запах повилики и мяты в чужих садах и огородах. И еще я унес песни. В Ракитном они не пелись, а «кричались». Их кричали гуртом на свадьбах и в хороводах, кричали в одиночку на дворах и в поле. Они были трех сортов – величальные, протяжные и страдательные. Эти выводились парнями и девками под гармошку как караул, но в моей памяти они улеглись навеки рядом со стихами Пушкина и Есенина.
Среди них осталась и частушка о козе и старике. Ею дразнили меня ровесники, и больше всех Милочка-лесовичка. Увидит на выгоне километра за полтора и затянет изнурительно тоненьким речитативом:
Дальше шло такое, что уши вяли, но Милочка не выбрасывала слов из песни, а мне тогда исполнилось четырнадцать, и я уже любил эту Милочку, и мое имя было Кузьма. Того запаса мистического проклятия и насмешки, что было заложено в этом ненавистном «Кузьме», хватило мне потом на долгие годы: мои рассказы, рассылаемые во все редакции тонких и толстых журналов, неизменно возвращались назад.
Ах, дед Кузьма!
Не дери козла!
Дери козочку!
Белоножечку!
Привяжи к кусту…
Сейчас на заднем сиденье машины лежат две книги. Их автор я, Константин Останков. Я везу книги в Ракитное, хотя не знаю, как объяснить сельчанам, что Константин – это я, Кузьма. В Ракитное я еду как на суд. Но, может, там и не читали моих книг?… В этом случае я не покажу их там. Я привезу туда – потом, когда напишу – свою третью, единственную, книгу. Она начинается так: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно, тихо, почти нежно:
– Вставай и защищайся, гад! Бить буду!»
Это все, что я написал за целую зиму. Тот, что хрюкал, – лежал и не шевелился, а этот, ударивший, стоял над ним и не уходил, и дело не подвигалось, повесть оставалась ненаписанной. Я видел ее – плотно-тугую, тяжко-маленькую, как булыжник, как этот удар, нанесенный неизвестным неизвестному, и сколько бы я ни бился, пробуя изменить начало, рука самостоятельно выводила на листе бумаги: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой…»
Все лучшее в этой моей ненаписанной книге – радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли – пришло ко мне на рассветах, в задумчиво-звучной тишине. Я тогда постоянно удивлялся прошедшему дню, не находя в нем того, с чем хотелось бы жить: правды жестов и искренности поступков тех, с кем я общался. Об этом – прошлом, темном и нелюбимом – и о том, что незримо еще проступало в новом дне: радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли, – я и писал свою новую книгу. Я писал ее в уме легко и споро, пока не садился за стол. Тогда кто-то другой во мне рассеивал обаяние утренних грез, тушил решимость дерзания на подвиг, уводил во вчерашнее, привычное и нелюбимое. Я каменел за столом, потом писал все ту же фразу: «Он ударил его в подскулья…» В восьмом часу из своей комнаты приходил Костик – мой шестилетний сын. Любя в нем все потерянное и ненажитое собой, я называл его дедом Кузьмой, Кузякой, Кузилищем. Он приходил всегда одинаково – одной рукой поддерживая трусы, а другую ладонь вверх протягивал мне. Я поворачивался к нему вместе со стулом и будто невзначай лягал стол правой ногой. Удар каждый раз приходился щиколоткой об острый угол. Щиколотка ныла потом часа три, и на все это время был предлог не подходить к столу, за которым я написал свои книги.
– Ну? Когда теперь получишь?
Сын спрашивал это каждое утро, и каждый раз голос его басел и басел, – Кузилище терял веру в меня.
– Теперь уже скоро, – обещал я.
– А какую? Красненькую?
Вслед за этим наступала минута немого ликования Кузяки. Он пригибался, работая руками у воображаемого руля, и под майкой у него круто выпячивался позвоночник – гибкий и вибрирующий, как пила.
В девять без четверти Костик отправлялся в детсад. На прощанье он говорил мне почти дружески:
– Ну, гляди не свисти! Чтоб получил!..
Речь шла о машине напрокат, – мы второй месяц стояли с Костиком на очереди в автотранспортной конторе. Но где он научился этому «не свисти»? В садике? Во дворе? Я на всякий случай занес «не свисти» в свою записную книжку – емкое слово, но после этого письменный стол показался мне еще враждебнее…
«Волгу» нам дали небесного цвета. Надломленный непомерным для его силенок восторгом, Кузяка два дня не появлялся в садике. Следя за ним и за собой, я окончательно понял, что детство – посох, с которым человек входит в жизнь. Свой – сучковатый, законный, на всю жизнь хвативший бы – я потерял вместе с именем «Кузьма»…
На третий день я поехал в Ракитное.
…Все, что я видел и о чем думал, оставив позади город и старушку в белом платке, не годилось для записной книжки, – это не принял бы ни один редактор: день мне казался крашеным яйцом – давним весенним подарком малолетнему сироте. То, настоящее яйцо, было окрашено в золотой цвет луковой шелухой. Меня одарил им тогда на Пасху наш ракитянский дед Мишуня – перед тем я целую неделю стерег его трех овечек. Под бременем той ноши – первый в моей жизни подарок! – я оцепенел сначала от изумления и благодарности, а потом от горя, когда яйцо разбилось. И теперь я узнал, что не все внезапные радости под силу человеку, не каждый подарок можно увезти в «Волге». Старушкина кладь не умещалась ни в моем сердце, ни в машине, она вытесняла меня в необъятную ширь этого апрельского дня, похожего на крашеное яйцо, и я съехал на обочину дороги, отошел от машины и лег в кювете. Надо мной в сторону Ракитного плыло большое облако. Оно было похоже на собаку, и я хотел записать это, но не стал шевелиться.
Человеку нужно временами побыть наедине с небом. Тогда он обязательно задумается над тем, куда исчезает – и исчезает ли? – из мира то, что потрясло когда-то все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, слово привета, радость открытия, скуловоротное ощущение вкуса незрелого яблока, впервые увиденная, стыдливо-сокровенная завязь ореха, теплая бархатная пыль на руке от крыльев упорхнувшей бабочки… Куда может деться тот бесконечно огромный серый мартовский день? Идти почти было невозможно, потому что ветер дул в лицо, а шоссе обледенело и ноги разъезжались в стороны. Вот тут, где стоит «Волга», лежала большая, льдисто сверкавшая свекловина, и ты увидел ее и побежал к ней, а сзади на тебя наезжала высокая бричка на резиновых шинах. Лошади были белые, кованые на передок, – это ты увидел, когда схватил свекловину и сбежал в кювет, на то самое место, где лежишь сейчас и смотришь в небо. В бричке сидел и зачарованно глядел на твои босые ноги Косьянкин. Он узнал тебя, и ты узнал его…
Нет, это не исчезает из мира. Оно навсегда остается в своем первозданном виде, с началом, продолжением и концом, и хранится в кладовке вселенной где-нибудь там в космосе, как суть и основание жизни…
Я давно слышал нарастающий гул – со стороны города на большой скорости шла тяжелая машина. Она проскочила мимо меня, и я задержал дыхание, пережидая, когда развеется вонь солярки. Я смотрел на облако-собаку, а указательный палец правой руки держал на запястье левой, – в детстве я мог не дышать до пятидесяти ударов сердца. Я слышал скрип тормозов грузовика где-то рядом с «Волгой», слышал ладный, исправный звук захлопнувшейся дверцы и шаркающий топот сапог по асфальту. Кто-то бежал ко мне, а я был всего лишь на двадцать втором ударе.
– Эй! Ты чего?
Я выдохнул воздух и сел. У кювета стоял маленький сердитый и как огонь рыжий паренек в стильной клетчатой рубахе и разбитых кирзовых сапогах.
– Ничего, – сказал я. – А что?
– Да ни хрена! Лежишь как убитый. Нашел тоже место! Я думал, случилось что. Перебрал, что ли?
– Да нет, – сказал я.
– А чего ж?
– Извини, – попросил я.
– Сперва напугал, а потом извини… Ну, пока!
Медведовку – наш райцентр – я увидел издалека с горки. Ни за что доброе не цеплялась тут моя память, но я должен был остановить машину, опустить боковое стекло и немного посидеть так, пока сердцу не стало легче от неожиданно радостной встречи со своим детством. Я так и не докопался тогда в себе, почему не хочу попасть в Ракитное днем. Наверное, дело было в машине – сияла она непомерно ярко. Я остановился в Медведовке, решив дождаться вечера. Здесь мало что сохранилось от прежнего. Иссох, превратясь в грязную лужу, большой медведовский пруд, исчезли, словно их сроду не существовало, тополя, заборы и палисадники. На площади не было тюрьмы, коновязи и базарных стеллажей. Теперь на этом месте стояло широкое, со всех сторон оголенное двухэтажное здание райкома партии. Чернозем вокруг него так плотно был утоптан, что казался асфальтом.
Я помнил все медведовские вывески – метровые листы красной жести с большими желтыми буквами. Теперь вывески были умеренные, черного стекла, но я долго искал ту, «свою» вывеску, водворенную на крышу низенького деревянного дома. Без нее я не представлял себе редакцию медведовской райгазеты. Мне хотелось найти тот домик, остановиться под окнами и просигналить. Да-да, обязательно погудеть, а потом выйти из машины, поднять капот и будто нечаянно взглянуть на окна редакции, – вдруг там покажется Косьянкин? Ему ни за что не узнать меня, я ведь постарел на двадцать пять лет…
Косьянкин… Ему тогда было под тридцать, а мне четырнадцать. Стихотворение, которое я послал в редакцию, начиналось так:
Это я написал о председателе своего колхоза, – у нас в Ракитном почти все Останковы, и стишок напечатали, исправив «колхозники» на «воры» и «хотится» на «хочется». Мое ликование за себя, поэта, граничило тогда с болезнью, и на второй день после опубликования стишка я сочинил поэму о плохом ремонте сельхозинвентаря. Поэму редакция передала в подвальную статью, и с этого времени я стал бичом родного колхоза, – на муки и горе его становления газета то и дело призывала через меня десницу прокурора и меч райотдела милиции…
Фураж колхозники воруют,
Останков смотрит – наплевать!
Ему ведь что! Пускай таскают.
Весна идет, хотится спать.
– Ох и трудным же оказался для Ракитного тот, тридцать седьмой год! Главное – хлеба не было ни у кого, и его пекли… из чего только не пекли! Мы с матерью тоже голодали, но я все не унимался и «критиковал», потому что о «положительном» писать еще не умел. То несчастье, которое выбило меня из Ракитного, случилось в метельный день конца февраля. Я брел по выгону из школы, и у обрыва Черного лога на меня напоролся мирошник колхозного ветряка Мирон Останков – мой родной дядя по отцу. Это он сам так сказал «напоролся», сгибаясь под тяжестью мешка. Мы долго стояли молча, – от непонятного страха я не мог сдвинуться с места, и тогда дядя сказал:
– Жмыхи несу… У свата Сергеича разжился…
Мешок лежал поперек дядиных плеч, налезая на голову, и дядина шапка съехала набок, закрыв правый глаз. Весь залепленный снегом, бородатый, с оголенными малиновыми руками, вцепившимися в концы мешка, дядя глядел на меня одним глазом, и глаз был неправдоподобно велик и белый-белый, как смерть.
Я побежал к селу вдоль обрыва, а дядя крикнул мне вдогон со слезой и злобой в голосе:
– Не губи! Свой я тебе!..
Зря он это крикнул – я не думал о чем-нибудь худом, я только испугался его глаза, и больше ничего. Дома мать подала мне мякинную лепешку, похожую на засушенный коровьяк, и письмо из редакции. То был «вопросник селькору», отпечатанный в типографии. Я стал читать его и есть лепешку, а мать всхлипнула и сказала:
– Ходила к Миронихе, думала добыть хоть махотку мучицы…
– Проживем и так, – сказал я, поняв, что тетка ничего не дала.
– Да глядеть-то на тебя мочи нету. Аж позеленел весь…
– Ну и пускай, – сказал я. – А ты больше не лазь туда!
– И Мирониха теми же словами проводила меня… А сами гречишные чибрики пополам с тертыми картохами пекут. Окунают в конопляное масло и трескают… Нешто ж ты им чужой!
«Вопросник селькору» призывал разоблачать двурушников, лодырей, рвачей, расхитителей, подпевал, летунов, оппортунистов. Вечером я отнес к сельсовету и бросил в почтовый ящик самодельный конверт. А через неделю в Ракитное пришла газета с моей заметкой «Мирошник поймался» и карикатурой на дядю Мирона. Он не был там похож, и мешок тащил раза в четыре больше себя. Мать долго и не без тайной гордости разглядывала подпись под заметкой – «К. Останков», – потом заголосила, как по покойнику:
– Сиротинушка ты моя несча-астная, что же ты натворил-наде-елал!..
На том месте, где когда-то стоял редакционный домишко, плотники возводили стропила на новом срубе, и мне не пришлось сигналить и вылезать из машины. Тот домишко сгорел, видать, недавно, – в венцах сруба кое-где виднелись обгорелые кряжи-вставки, и к весенне-чистому духу оголенных осин примешивалась угарная горечь остывшего пепла. «Плохо горел, – подумал я, – надо бы до конца…» В восковом свечении сруба я старался не замечать отвратительные черные заплаты, – в конце концов они ведь закрасятся и не будут видны, но все же на кой черт понадобилось это старье плотникам? Из-за нехватки новых бревен? Вон же их сколько в неразобранном штабеле!
Плотников было двое. Они сидели наверху сруба и мерно, безостановочно тюкали там топорами, прорубая пазы для крокв. Как говорят у нас в Ракитном, работали они «спрохвала», будто зачарованные: тюкнут – и подождут какую-то секунду, пока эхо не ударится в стенку соседнего сарая и не отскочит мячиком назад, к срубу. Глядеть со стороны на такую неторопливо-согласную работу хорошо и одновременно трудно: вас начинает обволакивать какое-то покойное и вместе с тем обезволивающее оцепенение. Я сидел в машине и смотрел на плотников, прислушиваясь к тому, как в левой стороне груди впервые за многие годы у меня без валидола затихает «зубная боль». Особенно замечателен был старый плотник. На его большой лысой голове против всяких законов естества держалась маленькая, василькового цвета, энкавэдэвская фуражка – и каким только чудом-лихом занесло ее к нему на голову! Когда старик ударял топором, фуражка подпрыгивала и повисала то на правом, то на левом ухе, и каждый раз он водворял ее на макушку привычным и каким-то незаметно спорым поддевом ручки топора. Гладкое, до бубличного глянца отполированное топорище сверкало тогда зеркальным блеском, и старик успевал переложить на нем руки и тюкнуть топором вовремя, когда это и нужно было, чтобы не спутать лада ударов обоих топоров. На той же стороне венца, лицом к старику, сидел молодой плотник в теплой солдатской венгерке и кортовой кепке с матерчатой пуговкой на макушке. От обуха до седловины новая ручка его топора была окрашена фиолетовыми чернилами, – сам постарался, а топорище выстрогал, конечно, старик. Он тюкал и все время стерегуще заглядывал вниз, и вдруг с силой вонзил в бревно топор, ударил руками по коленям и сообщил старику с восхищенной завистью:
– Семую, дядь Саш! Ну, что ты скажешь, а?!
У подножия сруба, разгребая щепу, бродили куры – разомлевшие, круглые, красномордые, и на одной из них яро трепетал и бился огнисто-вороной петух.
– Эть, дурак головастый, – сказал старик, не прекращая работу, – у тебя только одно на уме…
– Так семую же за каких-нибудь полчаса, чуешь? И хоть бы хны ему!.. Ты давай погляди, погляди, что он выкаблучивает!
– Ай позавидовал? – усмехнулся старик. – Вроде бы не вовремя…
Искоса он все же заглянул вниз и сразу же переместил себя на другую сторону венца, а топор прижал к животу.
– Опять приперлись? – сказал он кому-то внутрь сруба. – А ежели, храни бог, топор сорвется вам на головы? Что тогда?
Я различил глуховатый мальчишеский голос, но не расслышал слов, а старик выпрямился и сказал напарнику осерженно и недоуменно:
– Нет, ты погляди-ка! «Брешет, – говорит, – топор не вырвется». Вот же согрешение!..
Напарник прилег на бревно и гулко, как в колодец, крикнул:
– Вот я зараз слезу, найду вашу мамку и…
Он произнес лохматое и веселое слово, произнес душевно и искренне, как обещание подарка матери не видимых мною детишек, и в тот же миг они – мальчик и девочка лет по шести – показались на гривке придорожной канавы. Они бежали молча – девочка впереди, а мальчик сзади, потому что он то и дело оглядывался на сруб и спотыкался. Старый плотник, все еще придерживая топор у живота, беззвучно смеялся, а молодой озабоченно и виновато смотрел вслед детям…
Было хорошо от всего виденного и слышанного, от того, что сгорел редакционный дом и на его месте строился новый, что день по-прежнему был как крашеное яйцо, что на прогретой гривке, по которой убегали дети, пробивались пятачки лопушника и над ним с чуть различимым стеклянным звоном толклись комариные столбы.
И мне показалось странным, что всего лишь полчаса тому назад я решил приехать в Ракитное в сумерках…
Ветряк был цел, я увидел его, не въезжая еще с полевой дороги на выгон, не видя села. Оно рассеялось лицом на юг по склону, сбегающему к Ракитянке – изумительной по бесподобной красоте речонке, неглубокой, по пупок только, с отлогими берегами, заросшими ивняком и красноталом. Ветряк одряхлел, позеленел. Он был раскрыт и только о двух крыльях вместо четырех. На нем, видать, лет десять или пятнадцать как не мололи. Его давно надо было растащить на топливо. Он мог и так сгореть… от грозы, например. Или во время войны… Могли же на нем немцы оборудовать НП или установить пулеметы. А наши бы всего лишь одним снарядом… Он же как на ладони тут!..
Ну да, это был тот самый ветряк. Дядю Мирона отлучили от мирошничества в этот же день, когда по мне голосила мать. Я не доел тогда мякинную лепешку и пошел на Ракитянку смотреть ледоход. Речка выперла из берегов, и в лозняке застревали громадные синие льдины. Их у нас называют крыгами. Я залез на такую крыгу и стал вылавливать сучковатым шестом проплывающие мимо снопы конопляной тресты, – в кооперации в обмен на пеньку давали соль и керосин. За этим делом и застиг меня дядя Мирон. Он держал в одной руке самодельный ножик, а в другой беремя лозы – кошель, видно, собирался плести. Не спрячься я тогда за снопы тресты – может, дядя Мирон прошел бы мимо. Но я поставил снопы стоймя и присел за ними на краю льдины, спиной к речке. В щель между снопами я видел, как дядя остановился у льдины, там, где можно было залезть на нее, и негромко сказал:
– Голову за пазуху не сховаешь!
Я пригнулся пониже, а дядя Мирон, подождав чего-то, шагнул на льдину и пошел ко мне – худой, большой и чужой. Он остановился от меня шагах в двух, поставив перед собой комлями вниз вязку лозы, уже покрытую серыми мохнатыми пуплышками.
– Ну? Схомячился? Давай побалакаем!..
Он меня видел, но я боялся и не хотел этого и поэтому молчал и не двигался.
– Платят они, что ли, тебе за брехню? – спросил дядя и выругался в закон и веру. Вот тогда-то я и оглянулся зачем-то назад. Я увидел неровную, сизо-темную муть реки и бегущие навстречу ее течению кусты ивняка того берега, оказавшиеся теперь в середине разлива. Я видел это и падал на спину, потому что на меня заваливались снопы тресты, – я тащил их на себя обеими руками. Я был уже в реке, но успел схватить глазами стоявшего на прежнем месте дядю Мирона. Я запомнил его раскрытый рот, белые глаза и вязку лозы у ног.
Из реки меня выловили под Черным логом бабы – белье там полоскали. Я так и не выпустил из рук снопы тресты. Они зацепились за прибрежный ракитник и с ними застрял я. На шее у меня оказалась продолговатая царапина – проплывающей льдиной или корягой чикнуло. И захворал я не от этого. Просто простудился, а дядя Мирон… Зачем ему надо было прятаться в лозняке? Ну зачем? Он просидел там до вечера, – видел член сельсовета Яшка Кочанок, – и ножик потерял… Я не знаю, кто и как сообщил обо всем в Медведовку, но на второй день в Ракитное прибыли редактор газеты, прокурор и секретарь райкома комсомола. К нам в хату они не заходили, и о том, что приезжали, я узнал от председателя колхоза Останкова, того самого, которому в моем стишке хотелось спать. Почему-то он сам вез меня в больницу. Я лежал в задке саней закутанный в казенный тулуп, а он все время шел пешком, нещадно бил лошадь и ругался: дорогу развезло, и на проталинах земля курилась теплым туманом. Уже недалеко от Медведовки лошадь выбилась из сил и встала. Председатель снял с себя шубейку, накинул ее на спину кобылы и, взглянув на меня отчужденно, спросил:
– Чем он тебя колупнул? Ножиком, говоришь?
Память о стишке, заморенная дымящаяся лошадь, несчастный вид председателя и его откровенная, беспомощная ярость ко мне не допускали «благополучного» ответа, потому что тогда не было бы никакого оправдания этой нашей поездке с ним, и я заревел и подтвердил:
– Нож… Ножиком!
– Ну, будет, будет! – сказал председатель. – Там и ножик-то был, видно, с гулькин нос! Присохло бы – и все. А теперь вот…
Больше он ничего не сказал. В больницу мы приехали поздно вечером…
Со стороны Медведовки к Ракитному кто-то ехал на телеге, а я стоял на самой дороге, и посторониться мне было некуда: справа и слева к ее колеям подступали зеленя. Можно было проехать только вперед, к ветряку на выгон, и там пропустить подводу, но я решил стоять там, где стоял: мне хватало ветряка издали. Я сидел в машине и в отражательное зеркало следил за приближающейся подводой. Она ведь не забуксует, если и объедет. Я видел только лошадь – муругую, статную и сытую. Телега была не видна, и тот, кто сидел в ней, не думал объезжать «Волгу». Лошадь шла мелким танцующим шагом и остановилась рядом с машиной. В зеркало я видел ее большие фиолетовые глаза с белым ободком и темные чистые ноздри с розовым жаром в глубине. Такие глаза и ноздри бывают только у жеребца. Потом, когда его охолостят, глаза полиняют и ноздри потухнут. Это я подглядел в детстве и запомнил в обиде на коновалов. Танцуя на месте, жеребец все тянулся губами к стеклу машины – пить хотел, но вдруг голова его круто откинулась вбок – сильно рванули, видать, за вожжину, и мимо «Волги», в каких-нибудь двух сантиметрах, проскочили дрожки. Я не разглядел того, кто в них сидел. Архаровец! Не мог забрать круче! Дрожки остановились недалеко, и ко мне, заваливаясь вперед, как ходят только с намерением бить, не спеша пошел лобастый приземистый человек. На нем была новая молескиновая спецовка с широкой латкой нагрудного кармана, откуда высовывались штук пять остро отточенных карандашей. «Местное начальство», – подумал я и вылез из машины, но ракитянин встал боком ко мне и остервенело, сухо и громко плюнул за дорогу, на то место, где в зеленях глубоко и остро пролег след колес дрожек. На меня он не взглянул и, вернувшись к жеребцу, ударил его ногой под пах. Дрожки выкатились уже на выгон, а я все слышал еканье жеребячьей селезенки…